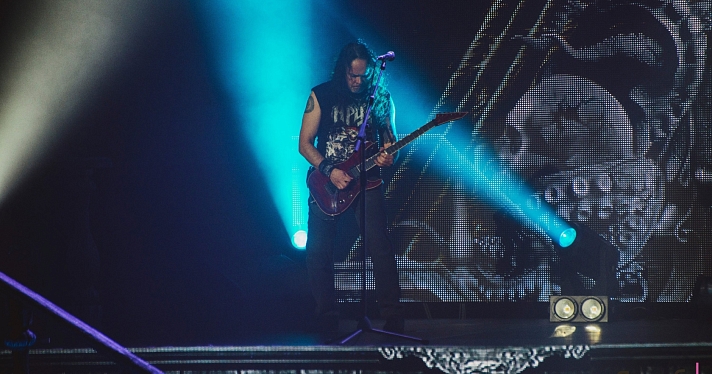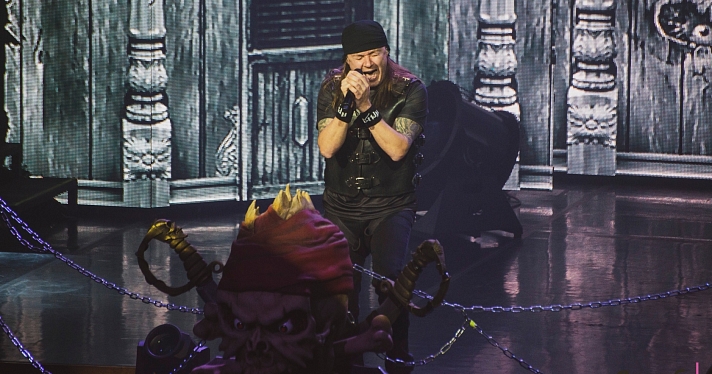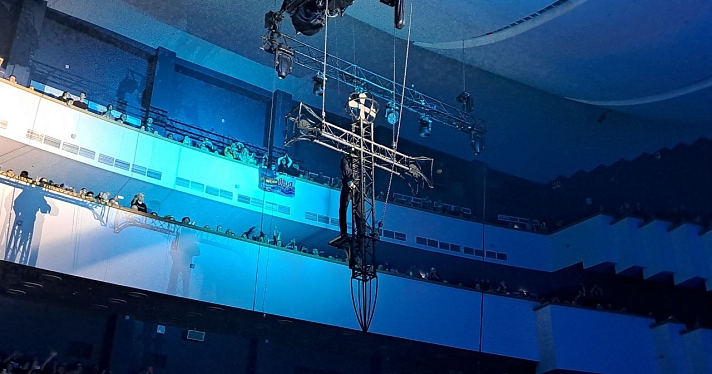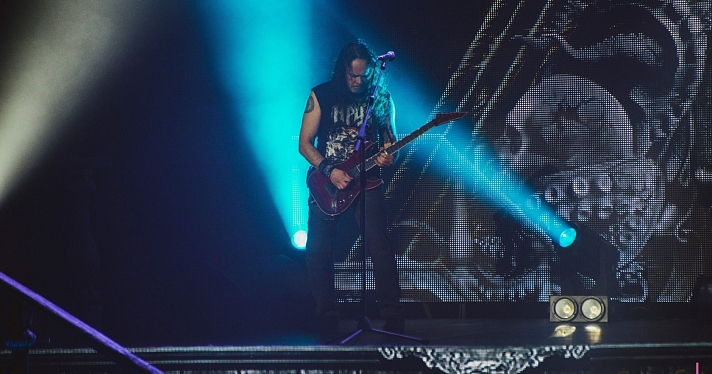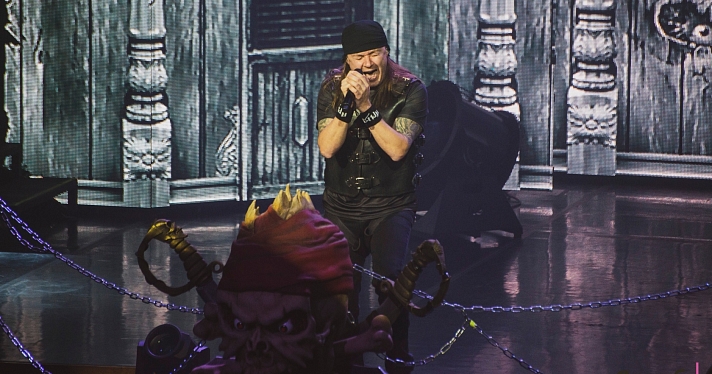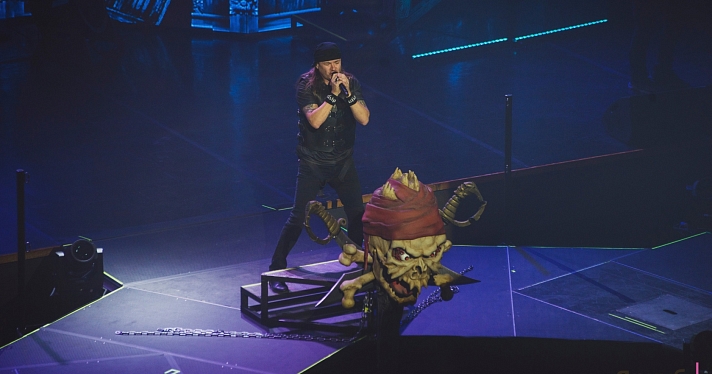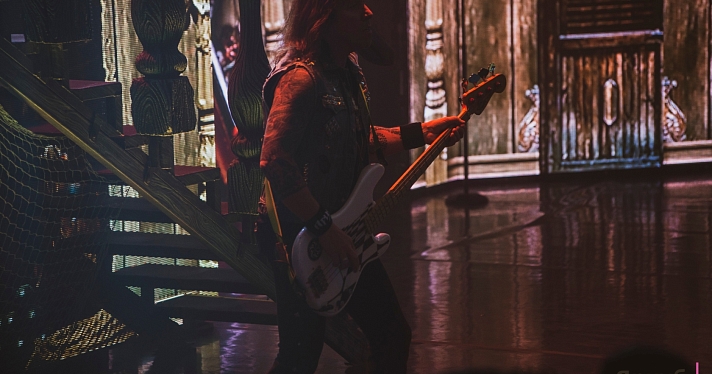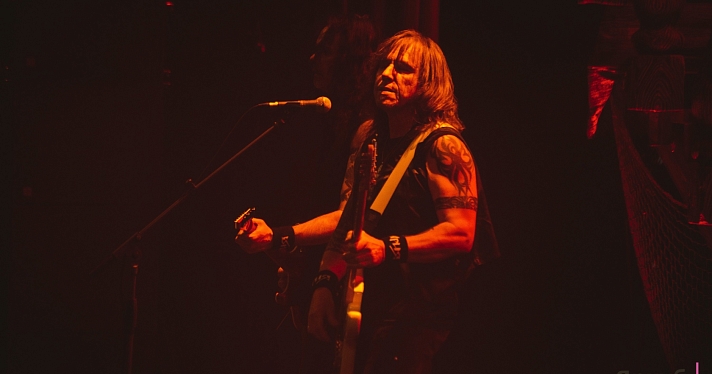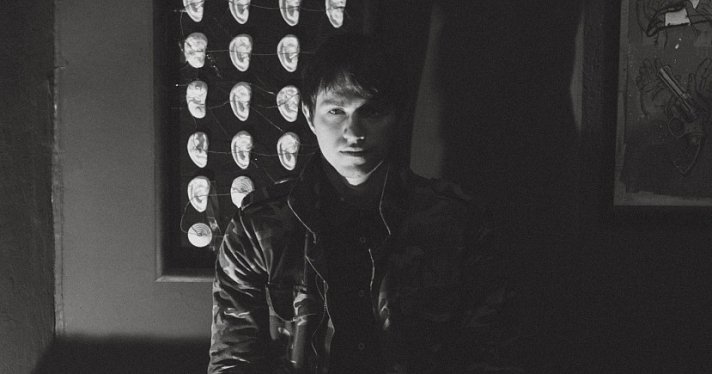25 марта 1949 года считается днем рождения ярославского хоккея. Именно тогда состоялся первый официальный матч: команда «Химик» одолела хоккеистов спортивного общества «Спартак». Матч прошел на катке на месте современной Октябрьской площади. Впоследствии ярославцы проявили немалый интерес к хоккею с шайбой.
В преддверии этой знаменательной для Ярославля и российского спорта даты «Яркуб» встретился с одним из самых преданных болельщиков ХК «Локомотив» — Александром Михайловичем Мешаресом.
Александр Михайлович познакомился с хоккеем в далеком 1959 году, в 1965-м увидел первую игру «Торпедо». За свой многолетний стаж он посетил множество матчей и турниров, в конце 80-х собирал болельщиков на выезды, ездил за ярославским клубом в другие страны и стал первым председателем фан-клуба. И по сей день Александр Мешарес преданно сидит на трибунах.
В интервью Александр Михайлович вспомнил основные вехи истории ярославской команды, ее «золотые» годы, рассказал о знакомстве с игроками и тренерами и своем отношении к современному хоккею.
1960-е. ДС «Торпедо»
— Как начался Ваш путь болельщика? Когда Вы познакомились с ярославским хоккеем?
— Как говорит наш знаменитый историк хоккея и замечательный журналист Владимир Малков, о хоккее, особенно ярославском, можно говорить очень долго. Мое знакомство с ярославским хоккеем случилось в 1959 году. Я даже и не знал, были команды какие-то в Ярославле или нет, но тогда я впервые вживую увидел хоккей с шайбой на Советской улице, где напротив Дворца пионеров находилась школа № 55. Во дворе этой школы был городской каток, на котором однажды установили коробку. В ней, как мне тогда казалось, мужики на коньках носились с воплями и криками, ударами шайбой по бортам. Меня это завораживало! Только потом я узнал, что эта игра называется не русский хоккей и не бенди [Хоккей с мячом — Прим. ред.], а именно хоккей с шайбой.
В декабре 1965 года у стадиона «Шинник», где сейчас построен физкультурный комплекс, установили открытую хоккейную коробку, где состоялся матч ярославского «Торпедо». Игра собрала довольно большую аудиторию: около трех тысяч зрителей. С кем играли, я уже не помню, но это была первая для меня игра, которая оставила запоминающийся след. Даже помню, что в том году в какой-то из дней было очень холодно. И поэтому перерывов было не два, а три.
 старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
— Потом открылся новый стадион. Помните, как там было в первые годы?
— Весной 1966 года весь хоккей переехал уже на улицу Чкалова, где построили стадион, пока еще открытый, вместимостью 4 300 человек. Когда я вернулся из армии в 1970-м, он уже был перекрыт. Естественно, народу ходило довольно много. Не скажу, что были аншлаги, но около четырех тысяч человек всегда бывало.
Болельщики собирались и скандировали: «Моторный завод! Моторный завод!»
— 1967 год стал прорывным — второе место в Чемпионате РСФСР, потом переменные успехи, а уже с 1980-х клуб уверенно закрепился в Высшей лиге.
— Успехи у «Торпедо» были разные: было много удачных и не очень удачных матчей. Десятки хоккеистов играли — наших, приезжих и так далее. Многих помню пофамильно, даже, если прочитаю фамилии, то я обязательно вспомню, под какими номерами играли.
Такие переменные успехи продолжались, если бы в 1980 году к нам не приехал такой специалист, как Сергей Алексеевич Николаев. Мы долго болтались во Второй лиге до тех пор, пока Николаев не пришел. Когда он вывел команду в Первую, все вдруг поняли, что с ним можно выбраться и в Высшую лигу.
Когда все-таки наша команда в переходном турнире попала в Высшую лигу, в Ярославле даже некоторые про футбол забыли. Это было что-то: к нам стали приезжать именитые игроки из ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Народ повалил валом. Команду «Торпедо» стали узнавать.
Для хоккея нужна нужны финансы. Спонсор «Торпедо» — моторный завод. Но разве мог ЯМЗ содержать 40 000 рабочих и команду? Поэтому, когда свое внимание на «Торпедо» обратили Владимир Андреевич Ковалев и Анатолий Иванович Лисицын, получилось так, что команда, расправив крылья, оказалась в Высшей лиге.
Николаев заставил нашу публику любить хоккей
— Вы помните Николаева, какой был человек?
— Мне очень повезло, что мы с Сергеем Алексеевичем жили в одном доме, но в разных подъездах. Естественно, часто встречались, говорили о хоккее. Непростой человек, прямо скажу. Но специалист был действительно классный. Николаев заставил нашу публику любить хоккей. К нему люди тянулись, но были и те, кто не выдерживали его работы.
Как-то раз я к нему домой пришел, он мне и говорит: «Саша, а чего-то я тебя не вижу, что ты сидел сзади нас». А я несколько лет сидел сзади команды. Я говорю: «Сергей, ты меня извини, но ты вчера так ругал ребят...» Он спрашивает: «Ну, а как их не ругать?» Поэтому я и пересел на другую трибуну, чтоб не слышать. Но это мы так смеялись...
 старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
— В Ярославль приезжали звезды советского хоккея. Наверное, аншлаг был?
— С этим была проблема! Всю жизнь мы этих звезд смотрели по телевизору: Михайлов, Петров, Харламов, братья Майоровы и Старшинов, а тут они вживую перед нами! Конечно, были времена, что и сидеть было негде. Сидели и стояли в проходах — 4 300 вместимость все-таки.
— А чемпионство в 90-е годы помните?
— В 1996 году «Торпедо» пришел тренировать Петр Ильич Воробьев. Команда сразу же стала чемпионом России сезона 96/97. В финале мы тогда играли с клубом «Лада». После этого команда начала участвовать в международных турнирах.
В 1998-м мне посчастливилось поехать на «Финал четырех» в австрийский город Фельдкирхе, на котором играли мы, московское «Динамо», чешская «Петра» и местная команда «Замина». К сожалению, выступили неудачно: в первый день проиграли динамовцам, а потом в матче за третье место уступили чехам. Но суть в том, что наша команда играла в Европе!
 «В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея
«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея
1997 год. Фото: архив ХК «Локомотив»
— Как узнали о том, что в Ярославле будут строить ледовый дворец?
— В 1996 году два автобуса отправились на игру в Финляндию с командой из города Тампере. На арене болельщики встретились с Виктором Владимировичем Волончунасом и Анатолием Ивановичем Лисицыным. Анатолий Иванович нас спрашивает: «Ну что, мужики, нравится вам дворец? У нас в Ярославле будет такой же».
И мы стали ждать, когда откроется эта арена. Я обязательно раз или два в месяц ездил туда и смотрел, как идет стройка. Была подана заявка на Чемпионат мира 2000 года. Правда, были скептики, и я в том числе. Когда я видел, что на арене тишина, что ничего не получается, я почему-то подумал, что мы к назначенной дате не успеем. Здесь виноват, конечно, дефолт и прочее, и прочее. Арена открылась 12 октября 2001 года, не будут же называть «Арена-2001»?
 старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
Строительство арены. Конец 1990-х. Фото: ГАЯО
— А как болельщики отнеслись к смене названия?
— В 2000 году команда стала называться «Локомотив». Было очень много недовольных. Как это — всю жизнь «Торпедо», а тут какой-то «Локомотив»? Потом все поняли, что «Локомотив» — это все-таки бренд. Министр путей сообщения очень помог финансово. И буквально через год все забыли, что было «Торпедо», а стала команда «Локомотив».
В тот очень важный сезон, когда к нам впервые попал иностранный тренер Владимир Вуйтек, пришли замечательные игроки, команда воспряла. Мы стали чемпионами с Вуйтеком. И этот же успех был повторен на следующий год. Действительно все совпало: «русский танк» Коваленко, братья Буцаевы, Немчинов и другие — это был сплав опыта и молодости.
Уж когда был триумф пана Вуйтека, всегда, особенно на матчах плей-офф, «Арена 2000» была забита под завязку.
 старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
Чемпионство 2003 года. Фото: архив ХК «Локомотив»
— Чемпионские сезоны, наверное, стали самыми запоминающимися для Вас как для болельщика или, может, были и другие моменты, которые остались в памяти?
— Это был первый Кубок Гагарина. Вышли в финал с Казанью. Счет в серии 3:3. И только в седьмом матче мы проиграли. Это было действительно запоминающееся. После этого мы ни разу не играли в финале Кубка.
Понимаете, к хорошему привыкаешь быстро. А когда ты уже стал дважды чемпионом, люди начинают говорить, что уже 20 лет мы не чемпионы. Вы можете ждать еще 40 лет, а я как ходил, так и буду ходить. От успеха до провала один шажочек.
Председателем фан-клуба я был два года. Многие тоже хотели порулить
— Вы же были председателем фан-клуба?
— В 1994 году к себе в кабинет меня вызвали президент клуба Юрий Николаевич Яковлев и начальник команды Игорь Михайлович Алексеев и предложили создать фан-клуб. На первое собрание пришли около ста человек, и так вышло, что председателем фан-клуба выбрали меня.
Со многими ребятами мы делали программки, сувениры, проводили конкурсы, интересные лотереи и встречи с хоккеистами. Мы придумали, чтобы лучшим хоккеистам выдавали вымпел. Помню, что в каком-то матче «Торпедо» проиграло, и мы не знали, кому вручить. В итоге отдали этот вымпел Леониду Вайсфельду, который судил этот матч.
А в 1994 году я гулял по улице Пушкина и увидел фитнес-клуб. Целый час уговаривал руководство, чтобы они пришли на «Торпедо». И уже тогда, в 94-м году, у нас появилась первая «Грация».
Председателем фан-клуба я был два года. Многие тоже хотели порулить.
 старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
— Домашние матчи Вы, наверное, все без исключения посещаете?
— Как «Арена» открылась, покупаю себе абонемент каждый год. Не знаю, что должно случиться, чтобы не пошел. В 2010 году сломал ногу. Пришлось пропустить аж три матча, а на остальные я ходил уже с костылем.
— В другие города вместе с командой тоже ездили наверняка?
— Естественно, довольно много было выездов. Несколько раз я с собой брал знакомых ребят музыкантов, был прекрасный диксиленд. Было очень здорово и весело, где-то проигрывали, где-то выигрывали.
Поездки сами по себе были очень интересными. Например, Владимир Тарасенко, сын Андрея Тарасенко, сидел у меня на коленях, когда был маленьким.
 старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
1980-е Фото: Борис Саранцев, из личного архива Андрея Горшкова
Сидел с болельщиками другой команды, когда забыл форму
— На игры вы ходите в майке со своей фамилией, а почему на ней номер «три»?
— Болельщиком номер один я считаю Анатолия Ивановича Лисицына, болельщиком номер два — Владимира Андреевича Ковалева, а третьим я поставил себя. Ну, может, не так скромно.
Настоящий болельщик должен обязательно показывать, что он является болельщиком команды. Для этого нужен атрибут: шарф, бейсболка или майка.
Однажды я приехал на игру, и выяснилось, что я забыл дома форму. Как же я пойду на арену без формы? Я дождался, когда отыграет гимн, и пробрался втихаря к болельщикам «Автомобилиста». Весь матч я сидел около них, чтобы меня никто не видел...
 старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
Обстановка в коллективе была очень позитивная, все были заряжены на успех
— Помните 7 сентября 2011 года? И тот момент, когда узнали о трагедии...
— О трагедии узнал за рулем в машине по радио в четыре часа. По-моему, весь город собрался туда. В тот злополучный день никто не верил в случившееся.
Тысячи человек собрались, когда стали с командой прощаться. И все говорят, что именно тот состав был наверняка сильнейший: канадский тренер, прекрасные игроки. Они ведь могли выиграть Кубок Гагарина в том сезоне. Обстановка в коллективе была очень позитивная, все были заряжены на успех. Но так получилось, что некоторые не сыграли ни одной минуты. И этой команды не стало...
Половину команды я знал лично, а с некоторыми дружил. Помню, когда была встреча с командой, последним уходил как раз Александр Галимов, наш прекрасный игрок под 11-м номером, это был как символический знак. Он один остался в живых, но потом его тоже не стало.
У меня есть знакомые, которые до сих пор говорят, что после той трагедии они больше на хоккей не ходят. Я с ними не согласен, но это их личный выбор. Тем не менее, арена была переполнена, даже когда «Локомотив» играл в ВХЛ.
Трагедия не оставила равнодушным никого в Ярославле. Перед десятилетней годовщиной трагедии ярославские блогеры сняли фильм. Видео: Открытый Ярославль - OpenYar
Я уже лет десять назад мечтал, чтобы наша арена всегда была в красном
— «Локомотив» уже 20 лет не был чемпионом, да и в полуфинал не выходил шесть лет. На Ваш взгляд, чего не хватает команде? Бюджет ведь один из высоких в лиге. В чем же главные ошибки?
— Я сторонник того, что не надо так часто менять тренеров. У нас ведь было как? Пять игр проиграли — пошел вон. Неудачно выступили — пошел вон. Вот сейчас у нас Никитин Игорь — специалист неплохой, который уже приводил ЦСКА к Кубку. Дайте доработать до конца!
— Чем современный хоккей отличается от хоккея, допустим, 90-х или советского времени?
— Многие говорят примерно так: вот когда были Александров, Викулов, Полупанов, братья Майоровы, Старшинов и или Харламов — было одно, а сейчас уже не то. Но я не согласен! В НХЛ в каждой команде по два три человека из России — не зря туда берут. Значит, таланты есть. Российская хоккейная школа не стала хуже.
— А культура боления как-то изменилась?
— В культуре боления мы шагнули далеко вперед. Девушки из «Грации» — это находка. Считаю, их коллектив одним из лучших в России. А мишка-то какой у нас? Такие номера откалывает! Так что можно даже на хоккей не ходить, а просто прийти, посмотреть, как танцует «Грация», звучит музыка, пляшет наш мишка, болельщики аплодируют и включают фонарики, и вся арена светится.
Но я уже лет десять назад мечтал, чтобы наша арена всегда была в красном. К сожалению, нет. Ребят, вы посмотрите на команды НХЛ: самый маленький дворец на 14 000 — почти вся арена в форме!
Надо болеть до конца, верить в команду. Да, недостатков много. Я могу долго рассказывать о недостатках, но не хочу. Мы даже не знаем, чем все закончится. Все-таки наша команда классная, и мы должны за ребят переживать.
Вот мне сейчас 74, а кому-то из болельщиков еще только лет десять — у них все впереди. Давайте любить нашу команду и думать о том, что наши дети, внуки, правнуки будут заниматься спортом и продолжат славные традиции ярославского хоккея.
 старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
старейший болельщик «Локомотива» Александр Мешарес рассказал об истории ярославского хоккея
1990-е. Фото: архив «Грации»
— Как думаете, почему в последние годы снизилась посещаемость на «Арене-2000»?
— Думаю, общая посещаемость не только у нас упала, такая тенденция по всей России. Цены немножко подпрыгнули. Чтобы сходить семьей из четырех человек, надо раскошелиться. А если дети скажут, что хотят шарфик или майку — тоже очень дорогое удовольствие. Но игры посещают иногородние из Костромы, Иваново. Если овертайм затянется на час-два, это сколько надо сидеть? И люди, конечно, сидят, потому что они понимают, что это интересно и волнительно.
— Кто для Вас лучший тренер в истории ярославского хоккея?
— Николаев из ничего собрал команду. Вуйтек наработал все, что было, добавил креатива, при нем новая арена, первые иностранные игроки: новшество, видимо, сыграло свою роль.
Вот я смотрел на Вуйтека все время и ни разу не видел, чтобы он с пеной у рта был или с кулаками ходил. Все время спокойный, адекватный. А если бы вы увидели в пылу гнева Сергея Алексеевича, то у вас бы желание пропало на хоккей ходить! Разные они были. Я не могу их сравнивать, не могу сказать, кто однозначно лучше.
Помню, когда пришел Вуйтек, Николаев говорил, что у нас ничего не получится. Стали чемпионами, а он: «Случайно». Каждый тренер ревностно относится к другим. Ведь Николаева сменил Петр Воробьев и сразу стал чемпионом. И я всегда говорил Сергею Алексеевичу, что это по его наработкам. Он отвечал: «А ты думал как?»
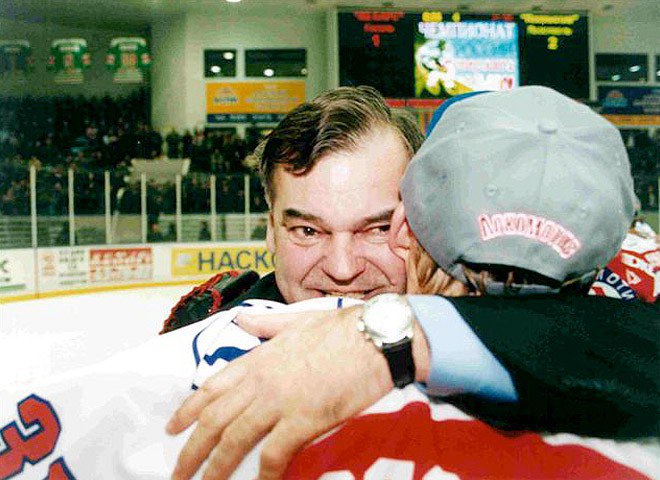 «В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея
«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея
Владимир Вуйтек. 2002 год. Фото: архив ХК «Локомотив»
— Что «Локомотив» значит для нашего города?
— Локомотив — команда № 1 для Ярославля. Ее знают не только в Ярославле и России, но уже и пределами, когда в КХЛ играли многие европейские команды. И ни у одной спортивной команды в городе нет столько достижений!
Хоккейная школа у нас огромная, одна из лучших в стране. Кто-то стал тренером, а кто-то депутатом.
 «В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея
«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея«В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея
Фото: Яркуб
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».
Александр Дюма, побывавший на ярославской земле в 1858 году, впоследствии в своих путевых заметках написал:
«...мы добрались до Романова, где делают лучшие тулупы в России, для чего держат романовских баранов, привезенных сюда еще Петром I. Царь Петр, который отнюдь не был ягненком, не погнушался дать им свою фамилию...»
Родиной романовской овцы действительно считается Романово-Борисоглебский уезд Ярославской губернии, ныне Тутаевский район Ярославской области. В далеком XVIII веке здесь по указу Петра I началось становление отечественного овцеводства. Романовская порода овец стала превосходным результатом крестьянского творчества и влияния совокупности местных факторов, например, климата средней полосы России и приволжских пастбищ.
На протяжении многих десятилетий популярность породы только росла. В хозяйствах дореволюционной России охотно держали романовских овец. Так, к 1880-м годам в Ярославской и соседних губерниях число голов достигло двух миллионов! Представители крестьянства с гордостью отмечали главные достоинства романовки: теплая и легкая шерсть, высокая плодовитость, отличные характеристики мяса.
Однако в позднесоветские годы крупные овцеводческие комплексы допустили ряд серьезных просчетов. В результате оказался потерян статус романовки как бренда и почти стерта его связь с малой родиной.
К счастью, в XXI столетии интерес к романовской овце возродился. Сегодня есть фермеры, настоящие сподвижники сельского хозяйства, которые с опорой на исторические факты и научные достижения прошлых лет, применяя современные технологии в сочетании с традиционными подходами к животноводству, дают царской породе новую жизнь.
Одним из таких хозяйств на ярославской земле — исторической родине романовской породы — является сельскохозяйственное предприятие «Юрьевское». Здесь работают квалифицированные сотрудники, блестяще сочетающие традиционный опыт и современные научные методы.
В чем сегодня главные достоинства романовской овцы? Почему сохраняется угроза ее исчезновения? Как этого не допустить? И в чем секрет идеальной романовки в целом? Об этом корреспонденты «Яркуба» побеседовали с основателем и руководителем СП «Юрьевское» Александром Вячеславовичем Чачиным.
— Александр Вячеславович, разговор пойдет больше о романовском овцеводстве, но начнем, пожалуй, с истоков. Почему Вы решили стать фермером и почему решили сосредоточиться именно на разведении овец романовской породы?
— Стать фермером меня подвигло желание заниматься чем-то настоящим, желание сохранять и улучшать достижения предков. В распоряжении для этого была родовая земля в деревне Юрьевское Первомайского района Ярославской области, моем родном регионе. Я начинал в 2012 году, причем уже тогда знал о сельском хозяйстве не понаслышке — все детство мне доводилось принимать участие в работе действующего колхоза. Именно с тех времен во мне зародилась любовь к нашим исконным породам сельскохозяйственных животных — романовской овце и ярославской корове. С годами эта любовь только окрепла. Поэтому неудивительно, что я и решил посвятить свою жизнь сохранению этих пород в нашем крае.
— Поясните, пожалуйста, для широкого круга читателей, в том числе людей, отдаленных от сельского хозяйства, какими свойствами обладает романовская овца? Какие признаки ее отличают от других пород?
— Ее история началась с XVIII века. До сегодняшнего дня эта уникальная порода дарит нам мясо, овчины и шерсть. Результатом народной, а позднее научной селекции стало несколько отличительных признаков «романовки».
Во-первых, многоплодие. Это естественный наследуемый признак, достоверно передаваемый потомству. От романовских овец за одно ягнение получают два-четыре живых ягненка. Сегодня мы располагаем результатами множества исследований, доказывающих рентабельность содержания маток, которые объягнились тройнями и четвернями. Но отмечу: важно не забывать при этом о качественном полнорационном кормлении!
Во-вторых, полиэстричность. Это способность овцы романовской породы к воспроизводству (размножению) в течение всего года вне зависимости от сезона. Данная особенность дает нам возможность круглый год равномерно получать молодняк для различных целей.
В-третьих, скороспелость. Если коротко и проще, то в товарных фермах ярку романовской породы возрастом 10-11 месяцев и весом от 42 килограммов можно смело ставить к барану на случку без ущерба для ее здоровья и здоровья будущего потомства.
Четвертое — качественная шерсть. Стрижку можно начинать с животных в возрасте шести месяцев. Шерсть мягкая, теплая, имеет изумительную способность к валянию.
Пятое — качественная шкура (овчина). Уже готовое изделие из данного сырья характеризуется легкостью и долгоноскостью.
И, наконец, ароматное, вкусное и полезное мясо. В 2021 году фермерское хозяйство «Юрьевское» впервые заявило бренд «Романовский ягненок» для участия в национальном конкурсе «Вкусы России». По итогам голосования «Романовский ягненок» стал призером в номинации «Вкус природы».
— Насколько романовская овца привередлива? Каковы условия, в которых нужно содержать романовку? Например, слышали, что овцы романовской породы плохо переносят сырость и сквозняки.
— Романовские овцы могут похвастаться выносливостью и неприхотливостью к условиям содержания и ухода. Нет потребности в строительстве особых дорогих овчарен. Я думаю, что любое животное плохо переносит сырость и сквозняки. Поэтому надо избегать таких условий. В нашем хозяйстве есть успешная практика круглогодичного содержания овец на улице с применением навесов над кормовыми столами. Теплую, но неотапливаемую бревенчатую овчарню мы используем только для ягнения маточного поголовья. Если я и говорю, что «романовка» неприхотлива к условиям кормления и содержания, но это не значит, что овец надо содержать в дырявом сарае и кормить гнилой соломой! Хотя и в таких условиях они выживут, так как отличаются высокой резистентностью. Наша задача в овцеводстве — держать продуктивность на высоком уровне, а для этого надо все же постараться.
— Каков сейчас уровень спроса на «романовку» внутри страны и за рубежом? Как изменился уровень экспорта в течение последнего года?
— Основным инструментом повышения экономической эффективности племенного хозяйства остается продажа племенных животных. Однако в 2022 году спрос на молодняк романовской породы в России существенно сократился. Мы отмечаем и снижение количества обращений потенциальных покупателей овец за консультациями. Считаю, что это временное явление. Вернутся те недавние времена, когда желающие приобрести элитный племенной скот находились в ожидании подрастания своего молодняка. Экспортный же потенциал у романовской овцы высокий, однако племенные хозяйства Ярославской области его не используют. Принимая решение продавать племенной молодняк только по территории России без вывоза животных в другие страны, ярославские овцеводческие хозяйства руководствуются своими субъективными ожиданиями трудностей, связанными с получением «разрешения на вывоз», поскольку существующая процедура требует значительных финансовых, организационных и временных ресурсов. Мы на нашем предприятии всегда ставим задачу создать такие условия, которые позволяли бы на постоянной основе экспортировать элитный молодняк за границу в будущем.
— Почему возникла угроза романовскому овцеводству? Когда эта проблема впервые заявила о себе и как обстоят дела на данный момент? Каковы главные угрозы романовскому овцеводству?
— Несмотря на все усилия племенных хозяйств и профильных министерств и ведомств, институтов России и Ярославской области, поголовье овец романовской породы в нашей стране снижается. В 2021 году племенная база РФ по романовскому овцеводству сократилась на пять хозяйств. Неблагоприятная тенденция к резкому снижению поголовья овец романовской породы ведет к тому, что уже через несколько лет романовская порода овец может оказаться утерянной для России. Вместе с породой мы потеряем систему селекции, наработанную и отлаженную несколькими поколениями работников сельскохозяйственной отрасли. Эта ситуация требует от нас реакции и немедленных действий. Главными же угрозами романовскому овцеводству считаю несколько.
Во-первых, отсутствие стабильного спроса на племенной молодняк романовской породы по приемлемой для хозяйства цене.
Во-вторых, недокапитализация предприятий, занимающихся романовским овцеводством. Важно обеспечить высокую технологичность в использовании всех продуктов производства (мяса, овчин, шерсти, молока). При этом появится возможность реализовывать высокомаржинальный товар внутри страны и на экспорт. Кроме того, нельзя останавливаться в совершенствовании технологий в производстве и хранении основных кормов (сено, сеннаж, силос, витаминно-травяная мука и другие).
Третье — недостаточное финансирование научной деятельности. Селекционная работа, исследование существующих заболеваний овец, например, Висна-Маеди, экспертная работа по достоверной и объективной методике выявления заболеваний — все это требует качественного научного сопровождения, нацеленного на результат.
Ну и, отсутствие кооперации в племенном романовском овцеводстве. Многие вопросы решались бы легче при объединении усилий племенных хозяйств Ярославской области.
— Есть опасение, что «романовка» может исчезнуть полностью через десять лет. Почему, по-Вашему, меры, принимаемые в настоящее время для сохранения породы, могут оказаться недостаточными?
— Наши опасения относительно сохранности романовской породы овец связаны с очевидно малым количеством хозяйств, занимающихся племенной работой с этими сельскохозяйственными животными. Есть вероятность, что принимаемые сейчас меры могут оказаться недостаточными. По моему мнению, будет очень эффективным создание специальной рабочей группы с участием постоянных представителей племенных хозяйств, профильных ведомств, научных учреждений. Результатами работы данной группы и будет постоянно дополняемый перечень мер поддержки отрасли, их сопровождение при реализации, синхронность и согласованность действий всех субъектов.
— Чем грозит отрасли полная утрата породы?
— Мне сложно представить сельское хозяйство, отечественное овцеводство без романовской овцы. Порода известна не только в России, но и в других странах мира. Генетика «романовки» ценна не только ввиду наличия уникальных признаков и особой продуктивности, значима и в планетарном масштабе с точки зрения разнообразия фауны.
— Что, по-Вашему, нужно предпринимать для спасения породы в первую очередь прямо сейчас?
— Важно осознать всем проблему сохранения романовской овцы, отметить место Ярославской области в решении вопросов романовского овцеводства, создать соответствующую авторитетную рабочую группу по этой тематике.
— Очевидно, Ярославской области безотлагательно нужна программа сохранения и развития романовского овцеводства. Как ее внедрить? От кого это зависит в первую очередь?
— Я думаю, что многое зависит от совместных усилий самих овцеводов — племенных хозяйств, от каждого неравнодушного человека. Популяризация романовской овцы делается не только руками профильных специалистов. Каждый может внести свой вклад: приобрести соответствующую продукцию отрасли, то есть откорректировать свое бытовое потребление; интересоваться историей романовского отечественного овцеводства; творческие люди в своих трудах могут использовать образ романовской овцы и ее культурного кода в том или ином виде; важно множить свою активность в соответствующих тематических группах в Интернете и так далее.
— Какие меры для сохранения романовского овцеводства предпринимаются в данный момент на предприятии «Юрьевское»?
— Команда «Юрьевского» со всей ответственностью и любовью к делу реализует свою заявленную миссию — опираясь на традиции и научные достижения, сохранить чистопородную романовскую овцу и ее культурный код для будущего России. Для этого мы:
- ежегодно увеличиваем маточное поголовье овец с выдающимися качественными признаками породы;
- совершенствуем методы и качество селекционной работы, предъявляя более жесткие требования при оценке животных;
- ведем активную работу по популяризации романовской овцы на территории России;
- участвуем в тематических международных, федеральных и региональных конкурсах, конференциях, фестивалях и семинарах;
- инициируем научные исследования, результаты которых используем в племенном деле;
- предоставляем свои производственные площадки для стажировок студентов профильных учебных заведений;
- в качестве экспертов консультируем вовлеченных в тему романовского овцеводства в вопросах содержания и ухода, кормления и лечения племенных животных.
— Возможно ли организовать, например, пункт по искусственному осеменению овец? Подходит ли база фермерского хозяйства «Юрьевское» для осуществления такой идеи?
— Организация пункта по искусственному осеменению овец — это только одна из мер по преодолению неблагоприятных тенденций резкого снижения поголовья овец романовской породы. Подобную инфраструктуру обязательно надо создавать на базе фермерского хозяйства «Юрьевское», поскольку именно здесь, в Первомайском районе Ярославской области, на высоком уровне налажена племенная работа со стадом. Здесь производится элитный молодняк, в том числе высококачественные бараны с выдающимися признаками, присущими исключительно романовской породе.
— Для сохранения породы важно тщательно отбирать родителей для будущего потомства? Как оценить качества потомства баранов-производителей?
— Я всегда, когда начинаю говорить о работе со стадом, напоминаю, что племенное дело может быть эффективно только при полноценном кормлении и хорошем содержании овец. К основному стаду (к «родителям») относят маток и баранов-производителей. Данные животные в племенном хозяйстве уже ранее были тщательно отобраны и оставлены для получения от них качественного потомства. Перед непосредственной случкой наши специалисты отбирают лучших животных, обладающими желательными признаками в селекционном плане, к которым подбирают соответствующую пару, чтобы в результате закрепить указанные признаки или улучшить их в получаемом молодняке. Качество последних как раз и влияет на оценку баранов-производителей. Молодняк же оценивается по крепости и весу при рождении (обязательно учитывается количество ягнят, полученных при одном ягнении), динамике привеса, далее при росте по экстерьеру и качеству шерсти и так далее. Все это постоянно фиксируется в первичной документации и в электронном виде в специальной информационно-аналитической программе. Бараны-производители и матки основного стада регулярно бонитируются — оцениваются по продуктивности, внешним признакам, а также по получаемому потомству.
— Можно ли улучшить признаки, которыми овца обладает сейчас, или сделать так, чтобы появились новые? Как этого добиться?
— Каждая порода сельскохозяйственных животных нуждается в постоянной селекционной работе. Важно не только совершенствовать те или иные хозяйственно полезные признаки, но и закреплять, сохраняя их в породе. Если бросить такую зоотехническую работу на какой-то срок, то вместе с животными могут пропасть все результаты многолетних наработок, поскольку признаки породы не могут существовать без самого племенного животного.
Романовское овцеводство, как и любое другое, нуждается во внимательном к нему бережном отношении. «Юрьевское» взяло на себя ответственность за качественную работу с романовской овцой, сохраняя для себя и заинтересованных предприятий чистопородное поголовье со всеми присущими ему уникальными признаками. На сегодняшний день перед нами не стоит задача в поиске каких-нибудь новых признаков романовской овцы. Мы сохраняем известные характеристики породы, улучшаем их и добиваемся того, чтобы они продолжали достоверно передаваться потомству.
— А как вообще усиливают породу?
— Породу усиливают постоянной и качественной селекционно-племенной работой. Размножая племенных овец романовской породы, мы отбираем лучший молодняк заводских линий, типов, выращиваем их для последующего внутрипородного скрещивания. При этом подбираются элитные бараны-производители с выдающимися качественными признаками. «Юрьевское» как племенной репродуктор постоянно занимается поиском таких баранов как среди своих ремонтных, выращенных у себя, так и в других племенных хозяйствах России. Кроме этого, особое внимание уделяем кормлению овец, совершенствуя технологию заготовки и хранения используемых кормов.
— Visna-Maedi — что это за заболевание и как появилось? Почему оно тормозит отрасль? Возможно ли его искоренить?
— Висна-маеди — это вирусное не опасное для человека заболевание овец и реже коз, медленно протекающее, поражающее нервную систему, вызывает пневмонию и смерть. Об этом заболевании упоминалось еще в начале ХХ века. Любые заболевания овец тормозят развитие конкретного хозяйства и отрасли в целом. Отвечая на вопрос, хотел бы больше отметить огромную значимость финансирования на государственном уровне профильных научных учреждений с целью более глубокого изучения заболевания, методик его достоверного качественного диагностирования на ранних стадиях развития. Ярославская область, по-моему, — единственный регион, где уже несколько лет дважды в год за счет бюджета ведется мониторинг заболевания, исследуется все поголовье области. Это положительная практика, обеспечивающая высокий уровень доверия покупателей элитного молодняка в хозяйствах на территории нашей области.
В «Юрьевском» постоянно используются профилактические мероприятия, направленные на недопущение проникновения указанного вирусного заболевания. Строго соблюдаются ветеринарные правила при покупке, заготовке и хранении кормов, ввозе и вывозе животных, обработке помещений и так далее.
— Специалисты предлагали создать криобанк гамет (сперма, ооциты, эмбрионы) для консервации генофонда in vitro. Как это тоже может повлиять?
— Нами действительно совместно с Ярославским НИИЖК — филиал ФНЦ «ВИК имени В. Р. Вильямса» обсуждались возможные предложения по сохранению генофонда романовской породы овец. Было сформулировано следующее:
1. Создание на базе ООО «СП „Юрьевское“» генофондной фермы для сохранения генофонда in vivo.
2. Создание площадки на базе ООО «СП «„Юрьевское“» по содержанию и оценке по качеству потомства баранов-производителей.
3. Организация пункта по искусственному осеменению овец.
4. Создание криобанка гамет (сперма, ооциты, эмбрионы) для консервации генофонда in vitro.
Все это должно работать только в комплексе, с разумно сочетающимися эффективными усилиями как нашего предприятия, так и научного сообщества. Консервация генофонда in vitro в виде криобанка гамет (сперма, ооциты, эмбрионы) даст возможность зоотехнику-селекционеру в любой момент воспользоваться материалом с генотипом, несущим в себе искомые и необходимые для работы качественные признаки породы. Сейчас же приходится объезжать физически со специалистами института племенные хозяйства в поисках необходимого молодняка (тех же баранов) с желаемыми признаками. При этом нас сильно волнует тот факт, что поголовье овец романовской породы в России снижается. Объективно может сложиться такая ситуация, что по экономическим причинам указанная тенденция сохранится. Мы можем потерять носителей уникального генотипа — элитного маточного поголовья и проверенных баранов-производителей.
— Что такое генофондная ферма in vivo и как она работает? Какой долгосрочный эффект может дать?
— На сегодняшний момент «Юрьевское» — успешно развивающийся племенной репродуктор, находящийся на пути создания полноценной качественной площадки генефондной фермы in vivo, удовлетворяющей запросы научного сообщества при работе по сохранению и совершенствованию романовской овцы. В науке в овцеводстве in vivo обозначает проведение селекционной работы непосредственно на живых овцах, оценка результатов такой работы при очередных обязательных бонитировках. Такая площадка должна быть обеспечена современной и удобной инфраструктурой. Здорово, когда специалисту хозяйства, ученому предоставлена возможность эффективно, рационально выполнять свою часть огромной работы с романовской овцой. В долгосрочной перспективе, двигаясь описанным путем, именно за Ярославской областью сохранится статус научного центра по работе с «романовкой», именно здесь будет сосредоточено элитное стадо, генерирующее племенной качественный молодняк. И я уж не говорю об экспортном потенциале региона!
Беседовали Арсений Дыбов, Александр Романов
Фото: Анна Фролова
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».
Михаил Николаевич родился в 1923 году в Харькове. Там же провел ранние детские годы. В Ярославль впервые приехал в 1933 году. И помнит, как строился резино-асбестовый комбинат и клуб «Гигант». На трамвае маленький Миша с друзьями ездил в район будущего Московского проспекта за орехами, а гулять с возлюбленной любил по набережной.
Военную карьеру Михаил Пеймер начал в 1940 году, став курсантом. В качестве курсанта принял участие в сражении за Москву. Затем был Брянский фронт, где его назначили командиром огневого взвода 338-го дивизиона и начальником разведки 337-го дивизиона. А потом — прямиком Сталинград, где в свои 19 Михаил стал командиром батареи 336-го дивизиона.
В конце войны были операция «Багратион», Литва, Восточная Пруссия. Медали «За боевые заслуги» и «За отвагу» за участие в обороне Сталинграда и орден Красной Звезды — за участие в операции «Багратион». И — неожиданно — арест за 20 дней до Великой Победы. Тюрьма и лагерь в Воркуте. Впоследствии Михаила Пеймера, конечно, реабилитировали. Однако трудовая деятельность в Ярославле для него на какое-то время оказалась под запретом.
В город на Волге он приехал уже на пенсии. Начал творческую и общественную деятельность и продолжает ее до сих пор — в своей квартирке в Заволжском районе у него рабочий кабинет.
А 25 февраля 2023 года Михаилу Пеймеру исполняется ровно 100. Корреспонденты «Яркуба» встретились с ним в преддверии этого почетного юбилея и свыше двух часов разговаривали о жизни. Михаил Николаевич вспомнил Ярославль 1930-х — город, каким его уже очень мало кто помнит — и участие в Сталинградской битве. Затронули и тему молодого поколения.
Представляем вашему вниманию большое интервью.
В Ярославле на трамвае ездили за орехами
— Михаил Николаевич, начнем, пожалуй, с самых ранних детских лет. Как Вы пишете в своей автобиографической повести, детство провели в Харькове, жили в коммуналке. Какое самое яркое воспоминание и впечатление у Вас осталось о том периоде?
— Очень хорошие, самые светлые воспоминания. Это были времена НЭПа. Владимир Ильич Ленин сразу после Гражданской войны объявил новую экономическую политику. В Союзе была разрешена рыночная система, мелкое и среднее предпринимательство. Страна сразу ожила. Были специальные кооперации, члены которых получали наборы продуктов, в магазинах появились продукты: мясо, молоко, рыба, выпечка — всего было много. И это продолжалось до самого начала коллективизации. После смерти Ленина компартия посчитала, что НЭП — это возврат к капитализму. И Сталин отменил его. Началась коллективизация, которая сопровождалась голодом. Но это уже было не в Харькове.
В Харькове я пошел в первый класс в 1930 году. В стране тогда был настоящий бум учебы. Окончилась война, и революционная романтика еще витала над страной — все были увлечены учебой. У меня даже бабушка ходила на курсы ликвидации безграмотности. Папа и мама ходили в Харьковский рабочий университет.
В почете были все средства массовой информации: газеты нарасхват, радио слушали взахлеб на Урале, на Украине, в Белоруссии, в центральной части России — везде, где шли крупные стройки. Печать писала об этом, это было интересно, люди были воодушевлены. Это было прекрасное время.
— А куда Вы переехали после Харькова?
— Мой папа получил назначение в Запорожье. Во втором и третьем классе я учился уже там. Наступили годы коллективизации. На Украине случился страшный голод: засуха, недостаточный урожай. Зерно принудительно забирали для голодающих районов. И оказалось, что самая злачная Украина оказалась без злаков. Особенно пострадала именно Запорожская область и Приднепровье. Там было страшно — люди умирали, даже трупы лежали прямо на улице.
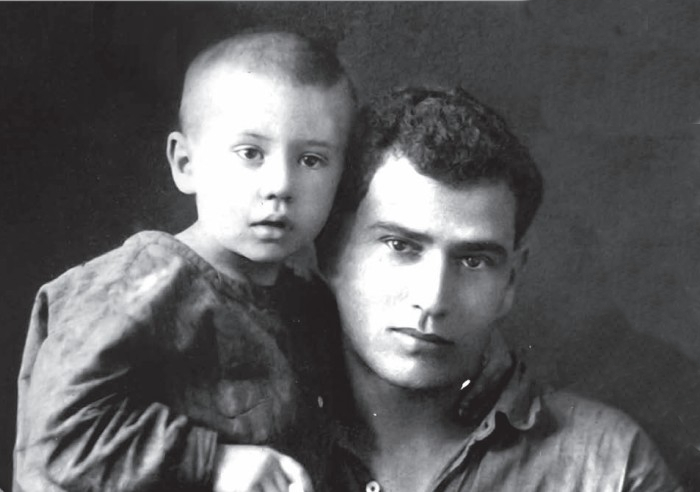 «Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
Юный Михаил с отцом. Фото из книги Михаила Пеймера «Спасибо за жизнь»
— Насколько знаем, в Ярославль Вы впервые попали в 1934 году, когда Ваш отец, Николай Пеймер, получил здесь работу. Ярославль — это был целенаправленный выбор Вашего отца? Или же его направили сюда по распределению?
— В Ярославле в ту пору по инициативе наркома начали строить резино-асбестовый комбинат, создали шинный завод, завод каучука, кордовый механический завод. В Запорожье приехал вербовщик. Папа тогда участвовал в строительстве коксохимического завода, но подписал контракт и поехал в Ярославль. В 1933 году мы приехали сюда, отец получил квартиру на проспекте Отто Шмидта — нынешний проспект Ленина, дом 17.
 «Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
Проспект Шмидта (Ленина). В этих домах жил молодой Михаил Пеймер. 1930-е годы. Фото: ГАЯО
— Доводилось бывать там потом, уже когда Вы вернулись в Ярославль?
— Однажды. Мне дверь открыли, но в квартиру не пустили (улыбается).
— Часто ли доводилось бывать на малой Родине после того, как переехали?
— У меня в Харькове, Николаеве и Херсоне остались близкие и дальние родственники. Не раз бывал там уже после развала Советского Союза, в 2008 или 2010 году.
— Каково было Ваше первое детское впечатление о Ярославле?
— Когда мы после голода приехали сюда голодные и замордованные, мама меня взяла на базар у Дома моды. У меня чуть глаза на лоб не вылезли: творог, сметана, молоко, яйца — изобилие!
В ту пору в Ярославле население было около двухсот тысяч. Город был райцентром Ивановской области. Он был аккуратненький, хороший. По вечерам все рабочие и служащие наряжались и шли на бульвар гулять по городу — от театра Волкова до Волги. Можно было пройти до первой беседки, потому что дальше развалины, оставшиеся после Ярославского мятежа.
Спуск к Волге. 1930-е годы. Фото: «Ретро Ярославль»
— Какое самое любимое место в Ярославле было? Может, сквер или набережная?
— Именно эта беседка на Волге и под ней тропинка, по которой можно было спуститься к воде. В средней школе мы любили после уроков прямо с портфельчиками там гулять.
— А каким Вам запомнился ярославский транспорт тех лет? По сути, это только трамвай, сеть которого проходила через весь Ярославль того времени.
— Кольцо трамвая было на Московском вокзале, а от Московского вокзала уже пустырь начинался, и мы ходили туда пешком за Кресты. Там были заросли орешника, ходили туда орехи собирать в августе.
Будущий Московский проспект в те годы больше походил на сельскую местность. Фото: архив Александра Акилова
— В 1935 году в сентябре Вы пошли в 37-ю школу. Получается, до этого времени в какой-то другой школе учились?
— В начальной школе № 2, которая была в самом начале проспекта Ленина. Угловой дом напротив «Красного маяка». Там была четырехлетка. Один год мне пришлось учиться в школе в Фибролитовом поселке, она сгорела. А после построили нашу школу.
— Новенькую 37-ю в ее первый год многие называли просто шикарной и самой современной. Помните свой первый учебный день в ней?
— Она была не только своим зданием богата — в школе работал великолепный преподавательский состав. Все педагоги были женщинами в возрасте. Мне запомнилось, что ни одной не было толстой! Всегда они были одеты в строгие костюмы, беленькие кофточки с воротником и черным бантиком.
Наш классный руководитель — заслуженный учитель РСФСР — Ольга Ивановна Руковишникова преподавала химию. Она же нас выпускала из школы. Я много, где учился после, но друзья у меня всю жизнь были школьные.
А в 1938 году меня приняли в комсомолы, билет мне вручал Юрий Андропов, тогда он был первым секретарем обкома ВЛКСМ.
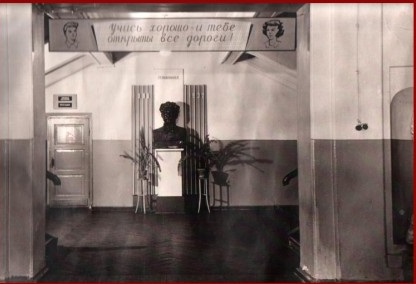 «Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
Школа № 37. 1930-е годы. Фото: архив школы № 37
— То есть связь с друзьями потом еще долго поддерживали?
— Даже не просто поддерживали — мы сюда съезжались со всех концов России. Собирались в квартире, накрывали стол, устраивали банкет, гуляли по городу — это были большие ежегодные встречи. И мы приурочили их ко Дню Сталинской Конституции: пятого декабря.
— Пожалуй, самым популярным местом для развлечений в городе тогда стал только что построенный клуб со звуковым кинотеатром «Гигант». Бывали там?
— Когда я приехал, его еще не было. «Гигант» и мою школу строил отец — он был начальником строительного участка.
Клуб «Гигант» был ведомственным клубом и принадлежал комплексу шинного завода. А шинный завод был шефом нашей школы № 37. Предприятие предоставляло нам право проводить там внеклассные занятия — разная самодеятельность, клуб юного туриста. Ярославль мне помнится не только школой, но и этим клубом.
Клуб «Гигант». 1930-е годы. Фото: «Ретро Ярославль»
— Какой досуг организовывался для школьников в то время? Знаем, что часто дети ходили в походы.
— Да, конечно! Первый наш поход был в 1939 году по тем местам, которые подлежали затоплению Рыбинским водохранилищем. Были в Мологе, в междуречье Шексны и Мологи. Когда мы туда приехали, людей уже выселили в Ярославль, где в пригороде для жителей строили домики. Мы были там последними, так сказать, могиканами. В городе только власти оставались, а граждан уже не было.
Потом в Рыбинске пробыли три или четыре дня. Затем на колесном пароходе возвращались домой в ночь. Ночь была прекрасная: звезды, лунная дорожка на Волге, а река гладенькая-гладенькая... Мы всю ночь на палубе пели песни, и другие пассажиры не уходили в каюты и сидели с нами.
Ездили на Урал в заповедник имени Ленина, были в Чебаркуле и в Минской области. Кроме того, я был активным и в драматическом, и литературном кружке. Я стихи начал в школе писать!
Фото из книги Михаила Пеймера «Спасибо за жизнь»
— А еще первая Ваша любовь, как знаем из книги, тоже связана со школой — Лидочка. Помните, как познакомились с ней?
— Она училась на класс младше. С ней мы подружились в туристических походах.
— Куда в те годы ходили в Ярославле влюбленные парочки?
— Мы любили устраивать вечера с танцами. Наши родители друг друга знали, и мы собирались по очереди — то у одних, то у других, у кого квартиры были побольше. У меня тоже собирались. Мама и папа помогали стол накрыть: пирожные, конфетки, чай, иногда даже бутылочку вина ставили.
Когда была хорошая погода и снежок падал, мы любили гулять по набережной или ходили на каток. В хоккей играли, многие наши девочки на фигурных коньках делали пируэты. Такие развлечения были.
И, конечно же, клуб «Гигант», где каждый день были постановки и кино. Правда, 12 дней могли показывать один и тот же фильм, но мы по три-четыре раза ходили.
Молодежь у беседки на Волжской набережной. 1930-е годы. Фото: «Ретро Ярославль»
— 30-е — это еще и время больших строек. В Ярославле в то время строился резино-асбестовый комбинат — собственно, на его строительство и приехал Ваш папа.
— Мы на экскурсии там были. Весь процесс показывали по цехам: как создаются покрышки для машин.
— В 1940 году Вы окончили десятый класс. Свой школьный выпускной помните? Как проходил?
— Мы были очень плохо одеты, вне зависимости от благосостояния семьи. Просто у нас не было таких товаров. Я ходил полтора месяца каждый день в магазин и приобрел три метра ткани на костюм. Это был мой первый костюм. Я был нарядным: впервые надел галстук, белую рубашку.
— А кем Вы мечтали стать в детстве? С самых ранних лет мечтали связать жизнь с военным делом? Или было в какой-то момент и что-то другое?
— Все мальчишки поголовно хотели пойти в военное училище. Страна же все время воевала: на озере Хасан, на Халхин-Голе, а до этого на КВЖД и в Финляндии.
А в это время по Европе топали фашисты по всем дорогам. Германия после Первой Мировой встала с колен, покорила все страны Европы и поставила под свои знамена. Мы об этом знали.
— 30-е годы — безусловно, время не самое легкое. А каким оно было для Вашей семьи?
— Люди по-разному жили. Страна была далеко не благоустроенная для хорошей жизни. К примеру, подавляющее большинство строителей этого комбината жили в бараках.
Наша семья была благополучной: отец — начальник строительного участка, а потом начальник отдела в тресте, мама — начальник планового отдела Ярэнерго. У нас была четырехкомнатная квартира, приличная заработная плата. У меня воспоминания блестящие, это были прекрасные годы. Кроме того, от отца я унаследовал черту романтика. Даже войну я воспринимал как романтик — как поле, на котором добывают ордена.
Резино-асбестовый комбинат строится. 1931 год. Фото из открытых источников
В начале войны трудности создали сами...
— В июне 1940-го стали курсантом 1-го Гвардейского Московского военного училища артиллеристов-ракетчиков. Почему именно на нем остановили свой выбор?
— В военкомате я себя немного развязно повел: «Хочу в Рязанское училище летчиков-истребителей». Военком меня осадил: «Слушай, мальчик, веди себя скромнее. Это раз. А во-вторых, с таким зрением в летчики не берут». Определили в артиллерийское Краснознаменное Московское училище.
— 22 июня 1941-го хорошо помните? Где Вас застало то самое историческое известие?
— Я был курсантом. Когда началась война, постепенно из столовой училища исчезли официантки — курсанты сами себе наливали суп, а затем пропал и суп. Училище перешло на военный режим. Нас отправили доучиться на Урал в Челябинск, где я и получил диплом: гвардии лейтенант. Училище было единственным гвардейским, поэтому вне зависимости от того, куда меня пошлют, у меня уже было гвардейское звание.
После Челябинска мой первый фронт был Брянский.
— После получения диплома был Брянский фронт, а затем прямиком Сталинград?
— В начале войны многие трудности мы создали сами. Сначала Сталин не поверил разведчикам, передавшим дату нападения. Потом командующий белорусском округом Павлов и командующий прибалтийским округом Кузнецов оказались изменниками Родины. Но каждый из нас знал, что боевой генерал Павлов — один из самых талантливых военных — никогда не был предателем. Когда началась война, Сталин на две недели заперся у себя на даче и появился только через полмесяца. Чтобы снять с себя ответственность, он обвинил этих генералов.
Вторая ошибка Сталина: на юго-западном фронте Харьков был в оккупации. Тимошенко, который командовал юго-западным фронтом, и Никита Хрущев, который был членом Военного совета фронта, предложили организовать контрнаступление с освобождением Харькова. Сталин разрешил операцию. Русские солдаты оказались в окружении. И открылся свободный путь на Сталинград, куда немцы и устремились с засученными рукавами.
Тогда Брянский фронт был переброшен на Волгу. Я попал в 72-й гвардейский полк реактивных снарядов, в котором я был командиром огневого взвода.
В конце июля мы заняли рубеж в балке Хуторной и воевали, что называется, насмерть. Потом меня назначили помощником командира батареи. Не прошло и двух недель, как я стал помощником начальника штаба разведки артиллерийского дивизиона. А еще через полтора месяца меня, 19-летнего пацана, назначили командиром батареи установок залпового огня.
После Сталинграда мне пришлось неоднократно участвовать в так называемых позиционных войнах, когда стоят войска друг против друга и ведут бои местного значения: за высотку или маленький населенный пункт. В Сталинграде тоже поначалу позиционная война с бесконечными атаками изо дня в день. Каждое утро начиналось с атаки немцев.
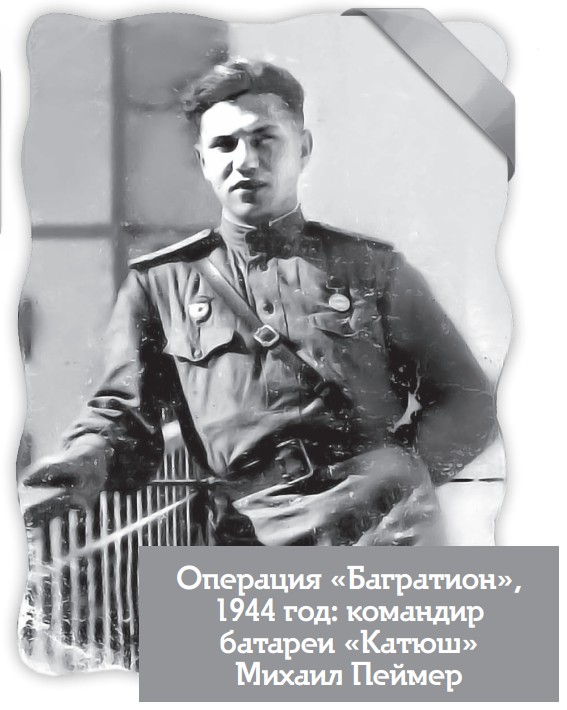 «Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
Фото из книги Михаила Пеймера «Спасибо за жизнь»
— Когда Вы стали командиром, у Вас в подчинении оказались фактически около 200 человек. Две сотни людей с разными характерами, но все, можно сказать, на Ваших глазах. Что, на Ваш взгляд, помогло выжить каждому из тех, кто смог дойти до конца? Может, песни, воспоминания о доме или мечты...
— Я уже говорил, что я романтик. Мы были молоды. Наше поколение принесло в армию молодость, знания, профессионализм, романтику, задор и несгибаемый патриотизм.
В батарее было несколько ребят из нашего училища. Мы были очень дружны. Я был командиром второй батареи, а командиром первой — Юра Жуков, начальник разведки дивизиона Лужин из нашего училища. А у меня в батарее командиром взвода управления был Миронов. Ночью мы собирались в офицерском блиндаже, выпивали по чашке, закусывали чем бог послал, а потом пели под гитару и мечтали о будущем, когда война закончится, когда встретимся со своими девчонками и невестами.
— Все это время — сплошные трудности, тяготы. Но что для Вас как для командира было самое тяжелое?
— Мне даже трудно сказать, что было для меня самым трудным. Пожалуй, земля. Артиллеристы отличаются от других войсковых частей тем, что мы должны были копать укрытия и блиндажи не только для себя, но и для орудий, делать погреба для складирования боеприпасов. Мы перекопали миллион тонн.
Однажды власти Монголии прислали нашим офицером меховые полушубки. Так в этих подарках тут же завелись вши — приходилось привыкать к вечному зуду!
— Как вы относились к немцам? Какие чувства Вы испытывали по отношению к этим людям?
— Вот это тот самый вопрос, который сегодня нужно разъяснять молодым людям и обывателям, которые живут в нашей стране. Русский менталитет: мы всегда были и останемся людьми, над нами всегда будет довлеть православная нравственность и человеческая мораль. Когда немцы сдавались в плен, мы же их табачком угощали и кашу приносили. Пленные низко кланялись и говорили: «Нас обманули, вы хорошие люди».
Перед входом в Восточную Пруссию уже после операции «Багратион» проводились специальные семинары в подразделениях, на которых до нас доносили, что мы не должны мстить мирному населению, что мы несем ответственность, чтобы не уронить лицо нашего государства. И мы вели себя достойно в Германии.
— Помните тот день и момент, когда получили ранение?
— У меня ранение было легкое. В медсанбате я пробыл всего два дня, а потом убежал оттуда в свое подразделение. А вот контузия... Я валялся около месяца. Оно потом все сказалось — я же инвалид второй группы.
 «Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении«Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
После Сталинграда, уже с погонами. Фото из книги Михаила Пеймера «Спасибо за жизнь»
— А момент ареста в апреле 1945-го? Впоследствии поняли, из-за кого это вообще произошло?
— После Сталинграда меня отозвал Наркомат обороны. Многих офицеров отправили на формирование новых частей. Я попал в 24-ю гвардейскую бригаду, направили командиром батареи тяжелых орудий — 320 миллиметров. Это уже орудия для прорыва обороны и последующего наступления.
Командиры дивизионов — все призванные из запаса, в военном деле полуграмотные, и все украинцы, а я — еврей. И шибко грамотный, окончил блестяще военное училище, командир бригады полковник Горохов бесконечно на разборках ставил в пример мою батарею. Меня невзлюбили.
Тут я еще выступил на партийном собрании и заявил, мол категорически не согласен с тем, что наших военнопленных солдат, которые были в гитлеровских концлагерях, мы освобождаем, а КГБ из увозит в сталинские лагеря. Одной этой фразы хватило контрразведке, когда меня арестовали.
Суд дал мне десять лет и пять лет поражения в правах и отправил в Воркуту. Это было за 20 дней до конца войны.
День Победы встречал в тюрьме
— Каким запомнился момент, когда Вы первый раз услышали о Победе?
— День Победы мы встретили в тюрьме. Помню всполохи салютов, которые я видел из окошка камеры.
— Почему после реабилитации в середине 50-х решили поехать в Кемерово, а не вернуться в Ярославль? И потом снова в Воркуту...
— Я освободился на три года раньше. В Ярославль приехал в 1952 году сразу после освобождения из лагеря. А Лида была уже замужем, дочку родила.
Попытался тут на работу устроиться. Ездил в Рыбинск, в Ростов. Мне сказали: «Парень, уезжай обратно в Воркуту. У тебя пять лет поражения в правах. Ты не имеешь права жить в центре России». Я уехал обратно. Потом мне сняли судимость, а после XX съезда партии реабилитировали — восстановили в партии, вернули ордена и звание.
Меня послали на учебу в Кемерово за счет комбината Воркутауголь. Я учился два года семь месяцев, потому что мне зачли военное училище. Когда я получил диплом горного инженера, я поехал обратно в Воркуту. Вся моя трудовая деятельность прошла в Воркуте: я прошел путь от мастера до начальника комплекса реконструкции шахт бассейна.
А в Ярославль я вернулся в 1984 году. Мне был 61 год. Моя жена умерла, а Лида со своим Николаем разошлась. Мы поженились и прожили 30 лет — успели! Дети мои закончили университеты — дочь в Петербурге, сын в Воркуте остался, а потом тоже переехал в Санк-Петербург.
Михаил Пеймер с Лидочкой, после освобождения из ГУЛАГа
— Вы и сегодня продолжаете активную творческую деятельность — и книги пишете, и интереснейший блог в соцсетях ведете.
— Я же не могу так жить: поел и лег, встал, поел и лег. Меня приглашают в библиотеки, школы, центры патриотического воспитания. Я люблю встречаться с молодежью, а молодые люди со мной, потому что я приветливый, интересно рассказываю.
— Кстати, свою страничку во «ВКонтакте» сами ведете?
— Ну, конечно.
Сочинения Михаила Пеймера
— На улицу выходите прогуляться, куда-то ходите?
— Когда я еду на дачу, там гуляю. Здесь иногда хожу в магазин. А на концерты в филармонию, театр заказываю такси.
— Уже свыше 30 лет Вы регулярно посещаете школы, общаетесь со школьниками. Можете ли сказать, что дети за это время сильно изменились? Или все так же слушают Вас с интересом, задают осмысленные вопросы?
— Нынешнее поколение более чистое и патриотичное. К нашему поколению они относятся не просто хорошо, а с восторгом. Они патриоты, как мы.
— Не так давно Вы посещали Волгоград. Какие чувства испытываете, когда возвращаетесь на места, где когда-то шла война?
— У меня везде присутствует излишняя сентиментальность и, может, даже неумеренный романтизм. Я приезжаю с восторгом каким-то: я на все смотрю, я бы все обнял, я бы встал на колени и целовал бы мостовую!
— Как Вы считаете, есть ли вообще шанс на восстановление отношений с украинским народом в обозримом будущем?
— Это моя мечта, но она неосуществима. Война продлится еще долго — год или больше.
— Как планируете праздник отметить? Ждете родственников всех?
— Естественно, родственники приедут. За проведение юбилея взялась председатель ярославского отделения «Российского Фонда Мира» Эдда Васильевна. Нашла зал на 40 мест, сама договорилась, уже меню согласовывает, спиртное. Отметим!
Беседовали Александр Романов, Арсений Дыбов
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».
Российская группа Ocean Jet громко заявила о себе в 2016 году, завоевав интерес публики и далее выступив на одной сцене с коллективом «Мумий Тролль». Их песни и музыка звучат в нескольких сериалах: «Проклятие спящих», «Агентство О. К. О», «Полицейский с Рублевки», а также в спектакле Александра Петрова «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ». Ребята продолжают покорять сердца слушателей завораживающими песнями и атмосферными клипами.
11 ноября 2022 года в рамках большого тура по городам России коллектив Ocean Jet выступил в Ярославле. Корреспондент «Яркуба» пообщалась с участниками группы перед концертом.
— Сразу ли вы нашли свой стиль в музыке?
Макс (солист): Изначально мы играли совсем другую музыку, тяжелее, по типу Thirty Seconds to Mars. Написали несколько песен, но к моменту начала работы над альбомом коллектив развалился. Ушел тот, кто писал музыку и делал аранжировки, поэтому мне ничего не оставалось, как учиться делать все самому. До этого я писал музыку, но это все было на коленке. Но теперь пришлось разбираться во всем и серьезно учиться. Мы начали писать песни в 2009 году. За это время вкус поменялся, и свою музыку мы хотели делать отличной от других. Я бы сказал, что наше творчество — это смесь альтернативы, электроники и мрака. Если честно, нас всегда сравнивают с группой Depeche Mode, в их современной интерпретации.
Иван (бас): Еще и с нотками Imagine Dragons.
Леся: Нам еще говорят, что наша музыка звучит как саундтрек к фильму. Она создает атмосферу кино, отлично подходит для прослушивания в машине и на фоне в целом.
— Когда я познакомилась с вашим творчеством, меня не покидало ощущение, что у вас высокая планка была с самого начала и вы ориентировались на европейскую аудиторию. Так ли это?
Макс: Изначально мы ориентировались не на российскую сцену, а на западную. Это желание и вылилось в наше фирменное звучание. Мы не ставили себя в рамки провинциального города, в котором жили. Целью было захватить мир (смеется)!
Самый распространенный комментарий о нашем творчестве был: «Я когда узнал, что вы из России, офигел!» Многие несколько лет слушают наши песни и даже не догадываются, что из маленького города Кострома. Вообще, когда мы только начинали, у нас было очень много отзывов от западных слушателей. Из Мексики и Бразилии тоже очень часто писали.
Пока мы выступали только в Риге и Минске. Не довелось поехать дальше, хотя планы, безусловно, были. Давно хотели поехать в Европу с туром, но нам не везло с концертным директором.
— У вас очень атмосферные клипы. Выглядят очень дорого.
Макс: На самом деле клипы делались очень бюджетно. Например, клип на песню «A Part of You» стоил 1 500 рублей (смеются). На клип на песню «DISTANT» мы усердно копили и собирали средства. Обошелся он в 100 тысяч рублей, но по меркам клипа — и это немного. Все-таки мы не планировали играть для себя, необходимо было явить творчество на публику, поэтому такие жертвы были оправданы.
— Видимо, у вас очень хорошие друзья, которые помогают в съемках?!
Макс: Да. Безусловно, друзья помогали. Клип на песню «BEAST» нам снял наш друг Максим Кулагин, очень хороший режиссер. Недавно он поставил крутой фильм «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли. Ранее Максим делал нам еще один клип — на песню «BREAKING THE STONE». Кстати, с ним нам помогал еще и Александр Петров — снялся и оказал финансовую поддержку.
— Можете ли вы определить переломный момент, когда карьера пошла в гору?
Иван: Очень сложно сказать точно, в какой момент карьера пошла в гору. Все шло более-менее плавно, мы работали, выступали.
Макс: Сингл «DISTANT» разлетелся в интернете как вирус, появилась аудитория. Первые концерты мы играли с восемью песнями. Но делали сольники, потому что народ шел. С 2019 года дело пошло куда серьезнее. Состоялся на тот момент самый крупный тур на 26 городов. В этом году 23 города, но по количеству зрителей выигрывает нынешний.
— Сколько вообще народу сейчас приходит на концерты?
Макс: Все зависит от города. В Москве и Питере зал мы собираем без проблем. Регионы тоже уже подтягиваются.
— Как вы считаете, почему западная музыка нравится слушателям в России? Но при этом такая же «фирмовая», но от российских музыкантов, остается не столь востребованной?
Макс: Это великая «загадка дыры» (смеется). Вообще непонятно. Думаю, тут влияют два фактора. Первый — на Западе музыка качественнее. Второй — развитая индустрия. Общепризнанные западные группы — это лучшие из лучших. Они известны по всему миру. Пиар очень развит — вкладываются просто нереальные финансы в продвижение.
Иван: А я не согласен. Ведь малоизвестные на Западе группы приезжают и к нам. Собирают небольшие клубы. И народ идет, срабатывает эффект новизны и статус иностранного артиста. Интернет помогает продвигать свое творчество и знакомить людей с музыкой. Думаю, и мы, поехав в Германию, собрали бы без проблем бар или небольшой клуб.
Макс: Мне кажется, в России англоязычную музыку российских исполнителей меньше слушают из-за того, что в ее продвижение вложено меньше и средств, и сил. Те же Little Big сначала стали известны в Европе, а потом уже и в России. Наш слушатель пока ориентируется на вкус Запада, как ни крути.
— Обидно вам от этого?
Макс: Еще как. Мы DIY-группа, все делаем сами. Все чисто на энтузиазме, своими руками и головой. Это требует огромных ресурсов. И когда ты столько сил, времени и денег вкладываешь в это, а на концерт в итоге приходят 30 человек — это, мягко говоря, досадно. Хорошо, что есть Москва и Питер, где можно оторваться по полной.
— Расскажите немного о том, как в группе появилась Леся. Ведь крайне редко в коллективах появляются вторые вокалисты!
Иван: Леся попала в группу через постель (смеются).
Леся: Я пишу книги. И в одном из своих романов я использовала образ Ocean Jet, но на тот момент, как и многие слушатели, я не догадывалась, что они русские. Потом узнала, что Максим живет в Питере, как и я. Пригласила его на фотосессию. Все закрутилось, начали встречаться...
Макс: А в процессе общения, я узнал, что она пишет песни, причем очень крутые. Творчество нас объединило еще больше. Мы стали писать вместе. И я предложил ребятам исполнять композиции нашего совместного сочинения.
Иван: Да, а песни были реально крутые. И мы стали думать, как их презентовать. Одним из вариантов стал совместный проект «OCEAN JET feat Lesia Valentain». Но фит длиною в альбом было странно выпускать. Поэтому, все хорошенько обдумав, мы решили взять Лесю в группу.
— Что-то с приходом Леси изменилось?
Макс: Леся привнесла новое как в творчество группы, так и в состав поклонников. На концертах стало появляться больше парней, ценителей женской красоты и вокала.
Леся: Влюбленных и семейных пар стало больше. Это очень приятно.
— Над чем вы сейчас работаете?
Макс: До тура мы были заняты записью EP (мини-альбома), сейчас завершаем большой тур. Приедем и будем заниматься новым спектаклем с Александром Петровым. Ну, а дальше мы планируем сделать сюрприз поклонникам к десятилетию группы.
— Сейчас вы живете в разных городах. Макс и Леся в Санкт-Петербурге, а Николай и Иван в Костроме. Как проходит творческий процесс?
Иван: Макс пишет музыку, делает аранжировку и сведение, Николай помогает.
Макс: Раньше все тексты писал Ваня, сейчас это делает Леся — весь новый альбом написала. Для творческого процесса нам не нужно постоянно находиться вместе. Перед туром мы с Лесей приехали в Кострому, где решали технические вопросы и репетировали.
Иван: Мы давно уже сыгранная команда. Нам ничего не стоит спустя полгода без репетиций приехать из разных городов на площадку. Затем на саундчеке отрепетировать полтора-два часа и отыграть концерт. Выйдет, может, и не очень, но концерт состоится (смеются).
— Расскажите о вашей работе над саундтреками. Есть ли отличие в написании собственной песни для группы и саундтрека к конкретной картине, фильму или сериалу?
Макс: Наши песни звучат во многих картинах. Мы записали саундтреки к трем сериалам. Также наши ранее вышедшие песни звучат в других проектах. Причем фоновую музыку под конкретную сцену я писал отдельно, опираясь на сюжет и эмоцию.
— Были ли у вас русскоязычные работы?
Макс: В 2020 году вышел сериал «Агентство О. К. О». Я стал композитором сериала и исполнил заглавный трек — кавер на песню «Легион» группы Агата Кристи. Он был написан специально для этого проекта. Также в сериале прозвучало несколько наших треков.
Иван: Это был первый и единственный опыт написания кавера, да еще и на русском языке.
— Расскажите о вашей работе с Александром Петровым. Как ваши живые выступления стали частью моноспектакля «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ»?
Макс: Саша снимался в короткометражном фильме, в котором играли песни Ocean Jet. Саше понравилось наше творчество, он пришел на наш концерт в Москве, там и познакомились. Потом Саша пригласил нас поучаствовать в своей работе.
— Стихи Александр читает на русском языке, а ваши песни написаны на английском. Не сбивало зрителей это? Не возникло ли диссонанса у тех, кто не знает английского языка?
Макс: Аудитория у Петрова разноплановая, пожалуй, молодых побольше. Диссонанса не возникло, ведь наша музыка звучит в спектакле как саундтрек. Она дополняет эмоциональный посыл.
— Не было ли у вас мыслей принять участие в телевизионном конкурсе с целью пиара и увеличения аудитории группы?
Макс: Конкурсы — это не моя история. Мне много раз предлагали поучаствовать и интересовались, почему я не иду на кастинги типа «Голос». Я не люблю петь на русском языке, а это было бы неотъемлемой частью. Да, для пиара это было бы неплохо, но, если честно, я не считаю себя супервокалистом. Сейчас уверенности больше, но уже не стало потребности и желания.
Иван: Не хочется отделять солиста от группы, как это вышло у Антона Беляева и группы Therr Maitz после участия в шоу «Голос». Лучший конкурс для нас был от Sennheiser в 2015 году («Зеннхайзер» — немецкий производитель оборудования для записи, трансляции и воспроизведения звука. — Прим. ред.). Мы только-только начали играть живьем, выступать. А у нас оборудование все кривое-косое, дешевое китайское.
Макс: Николай подал заявку на участие в конкурсе без особых надежд. Было огромное количество участников. Мы вышли в пятерку финалистов. Нас пригласили выступить. Мы приехали и выиграли. В итоге подписали с ним контракт, они нам оборудование подарили — очень крутое, до сих пор работает. Это был очень полезный конкурс. Лучше всяких вокально-песенных!
Беседовала Алена Ксенофонтова
Фото: Алена Ксенофонтова
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».
Группа «Ария» приехала в Ярославль с постановочным шоу «Гость из царства теней». Корабль в зрительном зале, огромные экраны, полет Михаила Житнякова над сценой и впечатляющие спецэффекты — самая масштабная работа в истории коллектива.
Премьера «Гостя...», приуроченная к выходу альбома «Проклятье морей», состоялась еще в 2019 в Москве на «ВТБ-Арене». После этого группа решила поехать в тур и показать всем «шоу мирового уровня».
— Вы долго сотрудничаете с группой «Ария» — уже выполняли постановочную работу таких концертных программ, как «Пляска ада», «Живой огонь», «Классическая Ария» и «Герой асфальта: ХХ лет». Можно ли сказать, что это шоу самое масштабное и трудное?
Юрий Соколов: Безусловно, так можно сказать. Мы уже это анализировали, и пришли к выводу, что постановочные шоу «Арии» идут по ступенькам, поднимаясь выше и выше.
Я не могу оценивать зрелищность, потому что оценивать должен не я и не музыканты. Но по нашему внутреннему ощущению, по сложности и насыщенности это более масштабный проект.
— В официальных релизах не раз отмечалось, что «Гость из царства теней» — это «шоу мирового уровня». На что ориентировались, когда вы придумывали шоу? Какие референсы, наверняка, знаменитый фильм о пиратах? Также оно неоднократно сравнивалось поклонниками с шоу Rammstein.
Виталий Дубинин: Кстати, «шоу мирового уровня» — это не группа «Ария» писала. Сразу надо сказать (улыбается).
Ю. С.: Виталий сразу открещивается. Я написал, но вокруг этого было много и юмора, и всего остального. Юмор был в том, что фраза похожа на рыночный слоган. А закладывалась идея, что наш продукт, сделанный в России, отвечает самым высоким мировым стандартам. Это не ввернешь в большое количество фраз, нужно было взять одну — отсюда и появился слоган.
Мы планируем шоу-тур следующего года. Там мы эту фразу снимем с афиши, потому что смысла нет уже. Шоу приобрело известность.
В. Д.: Это была такая завлекалочка.
Ю. С.: Была позиция, которая сформировалась на том, что это проект, сделанный у нас на мировом уровне. Насколько хорошо сделал — оценивать публике, но люди, судя по реакции считают уровень достаточно высоким.
О том, что задают вопрос, а какие аналоги? Никаких аналогов. Просто фантазии, ассоциации на музыку, накопившийся опыт и желание его реализовать.
Нельзя сравнивать по масштабу с Rammstein. Будем честны, Rammstein значительно масштабнее. Стояла задача насытить какими-то постановочными элементами и образами каждую песню нашего шоу. В этом, наверное, похоже на Rammstein.
В. Д.: Референсов в сторону «Пиратов Карибского моря», как я понимаю, не было, потому что в основном программа базировалась на материале альбома «Проклятье морей» — это и заглавная песня, и Летучий голландец, и так далее, что дало направление сценическому действию.
Ю. С.: Это как музыканты. Вот Виталий садится писать песню, может быть, он что-то послушал, что-то его впечатлило. Дальше начинаются ноты, они откуда-то из воздуха берутся, а потом уже понимается, что к чему. Или от текста, как у тебя происходит?
В. Д.: Ниоткуда (улыбается).
Ю. С.: Ниоткуда, просто ниоткуда. И после этого создается каркас. Мне несколько проще, потому что был готовый альбом с заданной темой, мне было легче мыслить образами.
Когда появляется базовая сценография, ты понимаешь, что это не один образ, потому что у «Арии» в концерте двадцать песен, и в каждой есть какая-то большая история, совершенно разная, насыщенная, полная музыкой и эмоциями. Дальше остается фантазировать, слушать эту музыку и понимать, как создавшийся каркас можно этим всем обернуть.
В. Д.: Он скромничает. Он же сам в этом варится: владелец компании, которая строит все эти декорации, он полностью в теме. Если бы он был такой свободный художник: «Слушай, вот здорово было бы сделать корабль. Пойду-ка я в фирму, буду с ними договариваться». Но у него все сразу есть.
Ю. С.: Моя специальность — это шоу-продакшн, всю жизнь этим занимаюсь. Я это делал для очень многих музыкантов, и, причем к своему стыду или не стыду, делал и для попсы.
В. Д.: Почему к стыду-то? Шоу качественное же.
Ю. С.: Я участвовал во многих театральных и рок-фестивалях: «Нашествие», «Максидром», делал и для Киркорова, и для Лепса. Выступал и как инженер, который занимается технологическим насыщением концертов, иногда и как креативщик отдельных элементов и целых шоу. Здесь я делаю все вместе. Так проще, потому что у меня прямая связь с музыкантами, с их музыкой и идеями. Никто меня не ограничивает, ну, поругаемся с музыкантами в определенных элементах — это все. А остальное можно раскрашивать как угодно. Я бы не назвал это режиссурой даже, что режиссировать в рок-шоу? Это фантазии, картинки.
В. Д.: Ну почему? Это постановка. Есть режиссер, а есть режиссер-постановщик.
Ю. С.: Все в одном флаконе, наверное. Хоть я и не художник, но я рисовал и расписывал образы. В процессе, наверное, человек десять было задействовано. Лео Хао рисовал основные арты, за основу мы брали оформление альбома [«Проклятье морей» — прим. ред.] от Эдуарда Юницкого, еще участвовал Антон GLOOM82 Семенов — это три основных художника, которые создавали для проекта оформление.
Кроме этого, был еще художник Коля Орлов, который делал скульптуру Жорика и русалку. И художники, которые у меня в компании работают — Слава Хоряков, Ваня Тутуров, Ваня Высокосов.
Всю историю, содержание я писал и от руки рисовал, что хочу видеть. А художники уже по моему описанию и эскизу создавали свои образы.
— Концепты такие, получается?
Ю. С.: Да, концепты я давал, на них уже потом все рисовалось. Если что-то не нравилось, мы меняли. Это долгий процесс, который длился минимум полгода.
Изначально было решено, что не будет эклектичной истории, все будет едино и выражено в концептуальном плане.
— График выступлений весьма плотный. Как удается поставить все декорации и успеть «прогнать» шоу?
В. Д.: Музыканты находятся в щадящем режиме. Нам это нравится, потому что обычно, когда мы работаем без декораций, концерты идут один за другим. Мы можем шесть-семь концертов подряд отыграть. Для вокалиста это достаточно сложно. А здесь у нас всегда получается свободный день, и нам хорошо.
Ю. С.: Технарям, конечно, сложно, потому что люди сначала смонтировали, потом всю ночь разбирают оборудование. Дальше они уезжают на автобусе, спят во время переезда и вечером должны опять собирать декорации. Это очень тяжелый график. Люди специально тренировались перед туром: разбирать, собирать. В процессе тура одна и та же бригада ездила.
Когда уже этот концерт, который был сначала на «ВТБ-Арене», стал превращаться в тур, мы переделали все декорации: распилили на куски и сделали специальные модули. Мы масштабировали все в несколько раз, потому что на «ВТБ-Арене» потолки 20-22 метра, в обычном дворце спорта, дай бог, 16 метров (и это хороший очень дворец спорта), а в других и вовсе 12.
Основная и главная проблема — логистика. Изначально было десять грузовиков, потом восемь, потом до шести уже дошло. В Ярославле мы пользуемся местным звуком — уже три машины.
В. Д.: Логистика — ключевая вещь. Это одна из причин, почему мы перенесли концерт в Вологде. Мы, в конце концов, поняли, что ошиблись и не успеем разобрать, собрать и смонтировать.
— Есть ли трудности с постановкой в небольших городах? Все же не такие условия как в той же «ВТБ-Арене»?
Ю. С.: Безусловно.
В. Д.: Мало того, наличие ледовой арены — это еще не панацея от всех бед. Самое главное, что, помимо помещения, должны быть необходимые конструкции — подвесы, где все должно крепиться. Потому что бывают дворцы спорта, где вообще ничего нельзя провести.
Ю. С.: И еще одна из проблем во дворцах спорта — информационный куб в центре, который приходится помещать в декорацию. Это создает глобальные проблемы, все превращается в мучение.
Потом мы сделали версию, приспособленную для театральных залов, как в Ярославле. И будем пробовать еще одну в Дзержинске и Владимире — для тысячного зала. Приходится масштабировать, но все основные элементы шоу всегда сохранены. Мы никогда их не выбрасываем из программы. Это всегда те же декорации, корабль, костюмы, экраны. И главный элемент — полет Михаила над залом или над сценой.
— Почему для концерта был выбран КЗЦ «Миллениум»? Каким критериям в принципе должна отвечать площадка? «Арена-2000» наверняка могла бы позволить провести именно стадионную версию?
В. Д.: Как правильно сказал предводитель [Юрий Соколов — прим. ред.], после концертов во дворцах спорта мы решили попробовать что-нибудь другое. На самом деле дворцов спорта в стране очень мало.
Ю. С.: Мы не смогли там выступать из-за хоккея, в первую очередь.
В. Д.: Мы решили все это масштабировать, спрессовать именно для таких залов, сделать шоу менее масштабным и попробовать провезти его по другим городам. И первым как раз стал Ярославль.
Ю. С.: Администрация разрешила сделать полет над залом. Значит, здесь есть техническая возможность, значит, зал современный.
— Некоторые площадки не отвечают техническим требованиям.
Ю. С.: Да, поэтому приходится адаптировать. Сейчас у нас три версии шоу. Изначально, конечно, мы планировали это шоу в единственном экземпляре, но люди, у которых нет дворца спорта в городе, не смогут увидеть. Это правильно? Не совсем. Это реалии нашей российской жизни, потому что есть города, которые не обладают площадками и не могут принять масштабные концерты.
— Быстро ли удалось соглсовать с нашей площадкой некоторые технические моменты?
Ю. С.: Администрация оказалась приветливой. Они сами загорелись идеей и сказали, что в зале можно полетать. Посмотрели шоу — редкий случай, обычно этого не происходит — и сказали: «Ой, интересно, давайте попробуем».
— В чем заключается главная сложность реализации идеи? Допустим, у музыкантов есть инструменты, а им летать приходится? Не совсем театральное представление?
В. Д.: На вокалиста ложится основная нагрузка, потому что он практически для каждой песне переодевается, у него есть факел, сабля, еще что-то: куча реквизита. Когда человек в воздухе поет живьем, это очень сложно, как мне кажется.
Инструменталистам, наоборот, хорошо и комфортно. Буквально к пятому концерту мы ощущали себя на сцене, что называется, как дети в школу. С этой точки зрения нам было очень просто.
Ю. С.: Повезло с Мишей, если честно. Я умудрился отвлечь его костюмами, переодеваниями, образами и актерской стороной вопроса. Оказывается, он поет только лучше, когда не концентрируется только на вокале. Это позволило ему еще больше раскрыться. Кстати, мне кажется, что и в вокальном плане, потому что, как он сам сказал, костюмы позволяют лучше ощущать себя в образе. А от этого у него больше эмоций, легче петь, куда более органично.
— Это ведь такой выход из зоны комфорта получается для музыкантов?
Ю. С.: Вот ты поешь концерты один за другим. Тебе надо все время где-то черпать эмоции, настроение, состояние. А здесь ты надел мундир, взял шпагу — уже настроение появилось.
В. Д.: Когда такой масштабный, но не пафосный концерт, в котором ты участвуешь среди декораций, — это очень эмоционально мотивирует.
— Наверное, и зрителям такая энергетика передается. Кстати, насчет зрителей, может быть, где-то они более избалованные, где-то их нечем удивить...
В. Д.: Это не угадаешь. Во-первых, не было такого, что народ не удивлялся. В Москве, когда в первый раз мы сыграли, люди просто не знали, как реагировать: они стояли, открыв рот, направив телефоны для съемки на сцену. Про реакцию они забыли.
Где-то народ чуть более раскрепощен, где-то зажат. Я не знаю, от чего это зависит, может, им холодно на ледовой арене (улыбается). Но все равно народ стоит и, так сказать, офигевает.
Ю. С.: Шоу приобретает популярность, становится все шире и шире. Оно привлекает не только «арийцев», но и тех людей, которые просто хотят посмотреть красивую историю и шоу. До пятой песни концерта они стоят в оцепенении, смотрят на сцену совершенно стеклянными глазами, открыв рты, забывая об апплодисментах, песнях и чем-то еще.
— Шоу идет уже не первый год, все элементы отточены. Но есть ли среди них такие, за которые до сих пор волнительно?
Ю. С.: Все-таки шоу насыщено техникой, поэтому я волнуюсь все время. Все полеты над залом... Действительно, можно микрофончик уронить на голову кому-то. Но все было хорошо.
В. Д.: Концерт насыщен всякими техническими примочками: сцена двухэтажная, у меня два микрофона впереди и наверху, а я всего лишь бэк-вокалист. Все время думаешь, вдруг что-нибудь отвалится, сломается? Конечно, это не критично, но...
Ю. С. (перебивает): Я как раз хотел сказать, что это критично! Если выпадают какие-то элементы, сразу теряется эффект. Я, например, всегда жду, когда Виталий в «Проклятии морей» пропоет свою часть, потому что, как мне представляется, русалка сразу по-другому летит.
А если этого нет, что-то вырубилось, какой-то кусок выпадет — все. Уже теряешь эмоцию, ты чувствуешь, как в следующем фрагменте публика реагирует по-другому. Все эмоциональные точки должны соблюдаться. Очень важно, чтобы все было на своем месте.
— Вы сказали про зрителей, что они стоят с удивленным взгляд. Огромные экраны, декорации — это не отвлекает внимание от музыки?
Ю. С.: От музыки, наверное, нет, потому что это единое шоу. Мы же не показываем клипы.
В. Д.: Я думаю, что это дополняет. Народ, наверное, не ожидает подобного и реагирует не так, как просто на музыку. Но при этом мы же не делаем такие номера, где просто цирк. Все эти декорации дополняют музыку. И поэтому все вместе смотрится органично.
Ю. С.: Есть один принцип, который я никогда не нарушаю. Наши артисты любят себя любимых всюду представлять на концертах: «Снимайте меня, показывайте сзади на экране, а еще покажите мой клип». Это абсурд. Тогда надо ходить в кино или смотреть клип. У нас подобных вещей нет. Но есть две песни с активным видеорядом, который изначально подразумевался под концерт. Все остальное — современные декорации, сочетающие в себе физические элементы и картины. Это рисованная часть — не клипмейкерство и не караоке. Я не против караоке, как сейчас современные артисты делают. Ну, хорошо, людям нравится, они поют вместе с ними. Но «Арии» это не нужно.
— У «Арии» множество хитов, как шел отбор песен? Список заранее уже был подготовлен?
В. Д.: Это же начиналось как презентация альбома «Проклятье морей». Построили эту декорацию, а песня просто в нее не влезает. Поэтому, конечно, мы думали, какие песни подойдут.
Ю. С.: Был широкий сначала сет-лист, мы долго его обсуждали. Есть некий концепт и методика построения концепта, то есть он связан с сет-листом и развивается от начала до конца эмоционально и содержательно. И между песнями даже нет промежутков, они заполнены специально сделанными фонограммами.
— Вы сразу представляете, как песня будет выглядеть на сцене?
Ю. С.: Не совсем так, конечно. Есть какой-то уже понятный нам костяк, из которого складывается концерт. Дальше я предлагаю какое-то расположение песен, а группа свои идеи. Я что-то отстаиваю либо мы находим компромисс, и таким образом все это строится. Это не так просто, как кажется, сложить концерт, чтобы он шел легко и не переутомлял. Я не могу себя считать уже объективным зрителем, потому что мне какие-то вещи надоели. Хочется концерт усложнить, а ребята говорят, мы настолько усложнили, что публика может потерять все эмоции и выдохнуться.
— Может быть, о планах? Допустим, на западе сейчас активно продвигают использование голограмм.
Ю. С.: Я думал об этом. Не знаю, как ребята к этому относятся. Скажу, что это связано с моим возрастом и восприятием мира. Я уже наелся этими голограммами. Если дальше в это уходить, то не нужны артисты.
Во время пандемии у нас было много онлайн-выступлений. Кроме этого, я еще участвовал в нескольких полувиртуальных проектах. Они меня утомили, потому что в них нет настоящих эмоций. Это тогда будет, на мой взгляд, уже не рок-н-ролл. Все-таки рок-н-ролл — это либо мега-шоу, которое я очень люблю, либо классная, зажигательная музыка в клубе, где ты можешь выпить пивка, погорланить со своими друзьями так, чтоб осип, и прийти с больной головой.
В. Д: Я не скажу, что голограммы — это отвратительно. Все должно быть к месту. Например, концерт группы «Кино» или Майкла Джексона. У нас, слава богу, все живы и здоровы.
Ю. С.: Есть у меня там пара задумок.
В. Д.: Значит есть, он просто не хочет пока рассказывать.
Ю. С.: У «Арии» много мистических песен, с которыми эта технология будет уместна. Голограмму можно использовать не как постоянно поющий образ, подменяющий артиста, а именно как один из элементов выражения.
Я готов использовать все технологии максимально, но они должны быть уместны. Виталий сказал, что мы не цирк. Мы не ставили задачу напихать сюда всего, хотя у меня столько технологических возможностей — можно было еще тысячу всяких вещей сделать, но они должны быть обоснованы. Прежде всего — идея, выражение, образ, а потом уже железки.
— Есть ли задумка экранизировать «Гостя из царства теней», сделать игровой фильм, чтобы какая-то сюжетная линия была вплетена в концерт?
Ю. С.: Честно скажу, хорошая мысль.
В. Д.: У нас такого не было. Если поступит предложение от Юрия, можно рассмотреть потом, если будет за что зацепиться. Группа «Ария» — это пять человек, четверо из которых инструменталисты. Прежде всего, если будет сквозное действие а-ля мюзикл, должны быть свободные музыканты, чтобы легко двигаться.
Ю. С.: Музыка «Арии» для подобных вещей очень подходит. Но это совершенно другой жанр. Было бы очень интересно в этом поучаствовать, если еще найдется кто-то с идеями, желанием их реализовать, или сами мы для этого созреем. Тема интересная, но пока не освоена.
— Если говорить о следующих песнях и альбомах, то будут ли они заранее нацелены на то, чтобы сделать шоу?
Ю. С.: Теперь уже деваться некуда.
В. Д.: Да, планку понижать очень сложно. Теперь непросто все бросить. У нас впереди юбилей — сорокалетие. К этой дате мы уж точно должны сделать что-то такое. Я надеюсь, что, если к тому времени будет новый альбом, то, конечно, сделаем. Технологичность и сложность шоу мы оставим, а номера будем делать другие или обновлять.
Ю. С.: Мы это обсуждали. На мой взгляд, нельзя людей все время плотно кормить чем-то чрезмерно насыщенным. Это шоу просущетсвует еще год, дальше мы его в таком виде катать не будем. Когда заканчивается этап объемной работы, нужно дать паузу. Но правильно Виталий сказал, что с выходом на сорокалетие вариантов не будет.
В. Д.: Часто приходится слышать про шоу: «Они одни и те же песни играют, не могут заменить что ли?» Эта программа концептуальная и целиковая, неправильно менять песни как перчатки.
Ю. С.: Мы пытались менять, но не склеивается. Настолько оказался этот концерт самодостаточным!
Фото: Яркуб
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».
- «В коробке во дворе мужики на коньках носились с воплями и криками»: старейший болельщик «Локомотива» рассказал об истории ярославского хоккея
- «Сложно представить сельское хозяйство без романовской овцы». Ярославский фермер о достоинствах, проблемах и возможностях дальнейшего развития местной породы
- «Когда впервые приехал в Ярославль, глаза на лоб вылезли». Михаил Пеймер в преддверии 100-летнего юбилея рассказал о городе 1930-х, участии в Сталинградской битве и молодом поколении
- Люди удивляются, когда узнают, что мы из России: группа Ocean Jet о поисках стиля, творчестве на расстоянии и сотрудничестве с Александром Петровым
- «Проклятье морей», Летучий голландец, пираты и полет над залом: Виталий Дубинин и Юрий Соколов рассказали о грандиозном шоу «Арии»
- «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
- «Обмен энергиями посредством искусства»: ярославский художник Илья Ноль о своем искусстве, психике и восприятии
Бездомные животные — давняя проблема многих городов нашей страны, в которых не всегда прохожие обращают внимание на судьбу пушистых зверят. Благодаря волонтерам удается помочь собакам и кошкам, которые попали в трудное положение, вылечить питомцев и найти для них новый дом. Неравнодушные спасают бездомных животных и пристраивают их в новые семьи.
«Котоцентр» — одно их таких мест в Ярославле, где помогают котам и кошкам. Корреспондент «Яркуба» пообщался с руководителем приюта Екатериной. Она рассказала о тяжелых буднях волонтеров.
— Начнем с истоков. Расскажите о том, как появился приют. Как пришла идея открыть его?
— Я была здесь изначально волонтером, помогала кошкам, а руководил другой человек, который открыл свой приют в новом месте. Я решила не терять помещение и продолжить это дело, но уже в роли руководителя. Набрала команду волонтеров, и пять лет мы уже существуем. Животные попадают к нам с улицы: кого-то бросили, оставили, кто-то попал в беду — у всех своя история.
Кошки стерилизуются, обрабатываются, вакцинируются. В дальнейшем мы ищем им дом. Кто дом не находит, остается здесь. На улицу мы никого обратно не выгоняем.
Обычно любой труд должен оплачиваться, но у нас все, включая меня, работают на добровольных началах.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
Кошка Хлоя — мурчалка, любит сидеть на коленях и петь песенки
— Сколько человек вас в команде? Как удается все успевать, совмещать с работой?
— Волонтеры каждый день ходят после работы, бегут к ним на дежурство кормить, убирать. Иногда в ущерб себе отменяешь что-то, хочется куда-то пойти, но ты не можешь — нужно идти дежурить. Мы все болеем, у нас есть свои проблемы, семьи, личная жизнь, но мы прекрасно понимаем, что котов не оставишь одних. Приходится, наверное, даже жертвовать чем-то.
Конечно, сложно, но это возможно. Волонтеры заинтересованы и хотят помогать кошкам, их не интересует денежный эквивалент. Они приходят, кайфуют, у кого-то нет животных, кому-то не разрешают, у кого-то аллергия, например. Здесь у них которелакс.
— Сколько в приюте подопечных на данных момент? И сколько он может их принять?
— Сейчас у нас 12 котиков. Максимально брали 15, было и 20, но это уже перебор. Скученность животных — это очень плохо. Стараемся, чтобы у всех все было в порядке со здоровьем. Когда кошек много, ты не успеваешь каждому в ушки, в ротик заглянуть. А тут успеваешь всем уделить время: обработать, таблетку дать, почесать.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
— Как коты и кошки попадают к вам?
— Неравнодушные люди звонят или пишут в соцсетях: «Караул, помогите!». С улицы приносят волонтеры, я сама могу принести. Кого-то бросили хозяева, принесли в клинику на усыпление. Ситуации бывают разные. Мы стараемся помочь и уличным Васькам, и породистым.
— Были какие-нибудь необычные случаи, как кошки к вам попадали? Может, кого-то пришлось спасать из открытого люка или ловить ночью в мороз?
— Была кошка, у которой были отморожены уши, вся замерзшая. Мы ее принесли сюда, отогревали долго, ухаживали за ней.
Есть кошка у нас из Ростова. Она жила одна в канаве, за ней гонялись собаки, у нее откусили хвост. Вот такая судьба.
— Бывало ли, что к вам попадали животные в сложном состоянии, покалеченные, буквально вырванные из рук живодеров?
— Такое тоже было: над котиком издевались, с хвостом были какие-то проблемы. Есть у нас мальчишка без хвостика, мы ему сделали операцию. Тяжелых животных мы стараемся у себя не держать, их всегда отправляем в ветклинику на стационар под наблюдение врачей.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
Скрывается в тени
— Какие условия созданы для животных? Что самое важное в содержании? Что самое трудное?
— Должна быть чистота и поддержание порядка — дезинфекция, чистые полы, клетки, свежий корм и вода. Качество жизни равно здоровью.
— Чем кормите подопечных? У кого-нибудь из них есть «особое меню»? Может, кто-то особенно привередлив в еде или кому-то по здоровью нужна особая диета?
— Есть у нас всякие. Мы кормим сухим кормом для стерилизованных либо балуем их еще влажными пакетиками. На спецкормах тоже есть кошки, потому у нас есть девчонка с больной печенью. Питание в целом каждому свое подбираем, которое нужно по состоянию. Если кошка здорова полностью, то она ест обычный корм. Если нет, то подбираем специализированное питание.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
— Что оказывается самым трудным в работе приюта?
— Самое трудное, когда они болеют, потому что здоровье — это самое важное, самое дорогое.
Мы сами их лечим по возможности либо отправляем в клинику. Клиника — это огромные долги. Собираем мы только на пожертвования или своими собственными силами.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
— Наверняка случаются такие ситуации, когда кому-то из подопечных срочно нужна помощь ветеринаров и когда счет идет буквально на часы, приходится открывать срочный сбор помощи. Можно ли сказать про ярославцев, что у нас отзывчивые люди? Активно помогают?
— Да, обычно и клиники идут на уступки, если ты просишь помочь и экстренно везешь животное с какой-либо острой проблемой. Но иногда бывают такие услуги, которые не могут в долг делаться. Если срочно, можно написать быстро пост на сбор помощи животному, и люди начинают активно помогать. У нас отзывчивые люди.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
Малышка Ди — инвалид, она не ходит, но очень ласковая
— Каким образом выбираете имена для безымянных котиков?
— Хочется чего-то запоминающегося и необычного. Я спрашиваю девочек, как назовем, и отсылаю фотку. Они предлагают. Исходя из каких-то привычек, жизненной ситуации, в которой она к нам попала, по внешности. К примеру, кошка похожа на Бэтмена, мы ее Бэт и назвали.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
Кошка Ляля
— Как ищете хозяев котикам и кошечкам? В Сети? Может, есть еще какие-то офлайн-мероприятия?
— По сарафанному радио по всем знакомым, соцсетям, площадкам объявлений.
Бывает, что мы кошку с улицы подберем, а оказалось, что она потерялась. Мы ее стерилизовали, вылечили и начали искать ей дом, а хозяева нас увидели и приехали. Такие истории бывают, что находят хозяева питомцев своих в приютах. Это здорово на самом деле, когда такое случается.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
— Допустим, вы нашли кошку, стерилизовали, а хозяева вместо слов благодарности говорят: «Что вы наделали»?
— Всякое было на самом деле: и претензии были, что-то вроде «как вы могли там кастрировать моего кота», и слова благодарности были. В любом случае, мы останавливаться не собираемся.
— Сколько котиков и кошек на данный момент за все время нашли свой дом? Насколько сложно пристроить животное?
— Порядка 50 котиков. Дом сложно найти, потому что в целом уже у нас все окошачены. У меня самой шесть кошек и шесть на передержке. Редко, но берут и взрослых, потому что животное уже со сформированным характером и привычками. Не надо бояться брать взрослое животное, потому что оно так же будет тебя любить, привыкнет к дому и будет тебе очень благодарно.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
У Зевса на спине написано «security» — суровый охранник приюта.
— Каким образом проверяете, можно ли человеку доверить животное? Случалось ли такое, что человек брал кота или кошку, а потом возвращал?
— Ты человека не угадаешь. Как-то приезжала женщина, нарядная в золоте сидела. Я спрашиваю: «Если животное заболеет, будете ли вы готовы обеспечить ему лечение?». Она говорит, что нет, усыпим. Бывало, приезжали люди абсолютно скромные: «Да вы что? Мы кошку свою тянули, 40 тысяч за нее заплатили».
Бывало, животное спустя два года или пять лет могли вернуть. Причин масса: аллергия, дети. Естественно, не принять я не могу, потому что это моя ответственность. И всем хозяевам всегда говорю, что всегда готова своим подопечным помогать до конца жизни. Что бы ни случилось, мы всегда примем животное назад, в любом случае поможем и не бросим.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
— Приходилось ли сталкиваться с негативом в отношении приюта? У нас часто бывает, что люди больше любят критиковать, чем помогать.
— Сталкивались с такими. Тут главное в голове держать, что ты знаешь свою цель и видишь результат того, что ты помогаешь, спасаешь эти маленькие пушистые жизни. Для меня результат — когда фотки котика шлют из дома, что у них все хорошо. Либо же пусть они здесь, но они сыты, в безопасности, в тепле, довольны и счастливы.
— Можно ли сказать, что абсолютно у каждого котика свой характер?
— Все коты по характеру разные. Бывает, конфликты случаются, дерутся, но драчуны сидят в клетках, потому что мы против насилия. Животные должны учиться коммуницировать друг с другом. Мы стараемся разнимать их, не допускать драк, проводим воспитательные беседы.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
— Насколько животных меняет жизнь на улице и как они потом приспосабливаются к жизни в приюте?
— Кто-то не приспосабливается. Например, у нас есть две уличные кошки, которые несколько лет не могут привыкнуть к человеку, боятся и не подпускают к себе близко. Кошки разные: кто-то замкнутый, веселый, скромный. Кто-то был дикий, но посредством любви и заботы со временем получается расположить животное к себе. Кто-то до конца жизни остается недоверчивым.
Иногда кошка попадает в домашние условия, понимает, что она одна и начинает доверять. Полноценный дом и любовь человека способны творить чудеса.
— Какие эмоции появляются, когда находишься рядом с множеством животных? Случается ли временами эмоциональное выгорание? Как с ним бороться?
— Это куча ответственности, потому что они живые, они все чувствуют, им нужна помощь, еда, вода, забота и внимание. Если с кем-то что-то сучится, ты начинаешь нервничать, переживать. Иногда приходится принимать тяжелые решения по усыплению. Это очень тяжело морально.
Наши волонтеры и приюты делают огромное дело, пусть иногда в ущерб своему эмоциональному здоровью и личной жизни. Должна быть безусловная любовь к животным, чтобы заниматься всем этим.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
— Каким образом желающие могут стать волонтером «Котоцентра»? Что важно знать и понимать начинающему волонтеру?
— Мы всегда рады новым желающим, потому что все мы болеем, уезжаем в отпуска и так далее. Мы все показываем, сложного ничего нет. Если какие-то трудности возникают, к примеру, в подачи лекарства, то приезжаю либо я, либо девчонки помочь.
В обязанности входит проветривание помещений, мытье лотков, клеток, смена свежей воды и еды. Волонтером может стать любой желающий, который любит котов, который ответственен и дружелюбен.
— Как желающие могут помочь «Котоцентру»? Что требуется из товаров, еды? Куда и когда это можно привезти?
— Кто-то помогает финансово, кто-то приносит нам корм. Лучше, конечно, всегда спросить заранее, уточнить, потому что это будет правильно и честно: мы говорим, что нам необходимо, какой корм, расходники. Пусть человек мало принесет, но именно то, что нужно. И мы будем довольны, и он будет доволен, что помог.
Пишите в группу «Котоцентра» либо в личные сообщения. Можно писать, спрашивать обо всем, просить помощи или совета. Я по возможности всегда стараюсь быть на связи.
 «У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
«У нас отзывчивые люди»: руководитель ярославского кошачьего приюта рассказала о буднях волонтеров
Каждый занят своим делом
Контакты и реквизиты для финансовой помощи «Котоцентру»
«Котоцентр» в соцсетях: vk.com/kotocentryar
Финансовую помощь можно оказать:
-
Номер карты Сбербанка: 5469770015452023 Екатерина Вадимовна М.
-
Мобильный банк по номеру телефона: 89806602855
-
QIWI-кошелёк: 89806602855
-
Яндекс.Деньги: 4100110189704630
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».
Илья Ноль — художник и музыкант, участник нео-психоделической группы «DHB23», ранее входил в художественную группу «NulluM».
Илья активно практикует экспериментальный подход к визуальному творчеству, исследует границы физического и духовного опыта. Характерная черта его творчества — постоянный поиск новых форм и языка для выражения зримого окружения и скрытых чувств, слияние телесного и психического опыта.
Свои работы художник показывал на выставке современного искусства «FORMA» в Ярославле.
Фото: «FORMA» / VK
— Расскажите немного о себе и своем творческом пути.
— Я родился в Калининградской области, волею судеб еще в раннем детстве оказался в Ярославле и живу здесь всю жизнь. Творчеством начал заниматься с ранних лет — лепка из пластилина, школа искусств, различные кружки и вандальные практики в виде граффити. Затем это стало больше чем просто увлечением. Параллельно с истфаком Демидовского университета я обучался живописи у частного преподавателя и с того момента решил, что свяжу свою жизнь с творчеством.
Фото: Илья ноль / VK
Долгое время работал как художник-оформитель, но не забывал и про свое творчество — считал важным услышать свой голос и найти свой язык. Вместе с этим я практиковал организацию выставок и различных мероприятий. После одной из выставок, которую мы компанией единомышленников «NulluM» организовывали своими силами, решили создать музыкальную группу, которая сейчас называется «DHB23», так как любовь к музыке всегда была неразрывно связана с нами, и мы почувствовали достаточно сил и уверенности для этого. С того момента создание музыки и визуального искусства всегда рука об руку на моем пути.
Фото: «FORMA» / VK
— Расскажите о своем направлении в искусстве. Как можно назвать стиль, охарактеризовать его?
— Названия у моего стиля нет. Наверное, условно это какой-то сюрреализм, но меня это не очень устраивает. Есть частично абстрактные и чисто формалистские моменты, то есть исследование техники и материалов и их возможностей.
Я стремлюсь зафиксировать в работах психически-активные процессы, свое сконцентрированное бессознательное и в то же время сознательное. Последнее время работаю предпочтительно с объемом. Это серии небольших и довольно крупных скульптур из гипса и других материалов. Объем более точно передает то, что внутри меня, мой первоначальный образный и смысловой посыл.
Фото: «FORMA» / VK
— Почему Вы выбрали это направление?
— Я его не выбирал. Это часть меня, которая просто проявилась в видимых образах и идеях, по-другому я просто не смог бы. Здесь все органично.
Фото: «FORMA» / VK
— Получается, Вы не хотите себя ограничивать и загонять себя в рамки, так искусство остается свободным?
— Наверное, так и есть. Проще не думать о рамках, тогда получается что-то необычное и интересное, для меня в первую очередь.
Фото: «FORMA» / VK
— Мне показалось, что в работах есть нечто научно-фантастическое, похоже на так называемый биопанк — так ли это?
— Я бы назвал это, скорее, психопанком, потому что мои произведения имеют отношение к психике и восприятию, даже при всей телесности и видимой биологичности. Это про галлюцинации или потусторонний мир, то есть не то, что существует или как будто существует в реальности, а отражение и проявление психических процессов. В работах также есть мотивы, близкие к поп-арту, тема иллюзий меня очень вдохновляет. В будущем еще планируется порочное скрещивание с поп-артом.
Фото: «FORMA» / VK
— Другая часть работ напомнила произведения Лавкрафта — если говорить о литературе, и картины Гигера — если уже о живописи. Расскажите о Ваших ориентирах, источниках вдохновения и корректно ли вообще сравнивать ваши работы?
— Если говорить о литературе, то это, скорее, произведения Уильяма Берроуза. Гигера вообще недолюбливаю...
Если ориентироваться на известных художников, то ближе Фрэнсис Бэкон, Эд Кинхольц, Луиз Буржуа.
Насчет сравнения — корректно, почему нет? Каждый все равно смотрит через призму своего опыта и насмотренности. И если мерещатся Лавкрафтовские чудовища, то значит, так надо. У меня по-другому просто.
Фото: «FORMA» / VK
— Как проходит творческий процесс?
— Обычно мне нужно много свободного времени и одиночество. Иногда делаю эскизы задумок, но чаще всё рождается сразу из-под пальцев. Стараюсь максимально сосредоточиться и одновременно расслабиться, слушаю музыку или аудиокнигу — то, что может затормозить и отвлечь на себя сознание, а дальше творит что-то более глубокое, главное ему не мешать.
Фото: «FORMA» / VK
— Какие материалы Вы используете в работах?
— Выбор материалов очень важен, так как не каждый материал может вдохновить и дать жизнь какой-то идее. Например, свои графические работы я делаю чаще всего на глянцевой фотобумаге масляными красками. Масло очень пластично и позволяет работать продолжительное время, а бумага дает эффект фотографии, что тоже очень важно. Меня вдохновляют пост-мортем фото, и эту эстетику удается включить в повествование таким образом.
Или последние работы из гипса. Изначально это попытка превратить плоские изображения в объем, это полностью меня увлекло — сам гипс, его три состояния. Материал может рассказывать свою историю.
Фото: «FORMA» / VK
— Произведения отличаются по форме и по технике исполнения, есть ли какая-то мысль, которую доносите до зрителя?
— В работах много всего помимо мысли. Чего-то конкретного, конечно, не хочу донести. Если бы хотел — писал бы книги. Работа с визуальным — это, скорее, работа с чувствами, чем с мыслями. Образ здесь важнее. Но и транслирую определенные мысли, правда, считываются они иначе.
Фото: «FORMA» / VK
— Допустим, такая реплика со стороны неискушенного обывателя: «Я ничего не понял, мысль не ясна». Что в этом случае Вы отвечаете на такое? Важно ли то, понял человек картину или нет?
— Расскажу, как я смотрю на чужое искусство. Для меня это что-то странное — понять картину. Картина или какой-то объект другого художника — это целая вселенная, а целая вселенная — это то, что невозможно понять. Я позволяю этим картинам на себя влиять, вдохновлять и оказывать воздействие. Это как слушать музыку: ты услышал что-то прекрасное для себя, и это наполнило тебя чувствами и энергией. Обмен энергиями посредством искусства — я бы так сформулировал.
Если кто-то что-то не понял, просто он не открыт для этого. Но я иногда даю какие-то ключи к пониманию определенных вещей, если вижу недоумение в глазах. Не особо важно, что человек понял, гораздо важнее, произошел ли энергетический обмен или нет. Когда начинаешь задавать вопросы таким людям, оказывается, что они считали куда больше смыслов, чем им показалось сначала.
Фото: «FORMA» / VK
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».
Врач-кардиолог, профессор Ярославского государственного медицинского университета Хрусталев Олег Анатольевич рассказал о влиянии бега на сердечно-сосудистую систему, рисках для спортсменов, мерах профилактики, вреде жаркой погоды и о том, чем могут быть опасны чрезмерные нагрузки.
Марафонские забеги могут быть смертельно опасными как для профессионалов, так и любителей спорта, которые не жаловались на проблемы со здоровьем. Так, 28 августа состоялся полумарафон «Золотое кольцо», с которым была связана трагичная новость — во время забега одному из спортсменов стало плохо, позже он скончался в больнице. Ему было 40 лет.
Всего в тот день к врачам обратились около десяти человек с жалобами на слабость, предобморочное состояние, потемнение в глазах. Это было связано с перегревом и обезвоживанием. В основном на плохое состояние жаловались люди старше 40 лет.
Это не единичные случаи обращений из-за плохого сам чувствия и гибели на дистанции — марафоны и полумарафоны часто заканчиваются трагедией для спортсменов.
— Какие отклонения в работе сердца спортсмена могут привести к летальному исходу?
— Существует медицинский термин «синдром спортивного сердца» — это ситуация, когда у человека, много лет занимающегося спортом, появляется адаптация к физическим нагрузкам.
У больших спортсменов или людей, занимающихся экстремальными видами спорта, иногда нет чувства меры, они стараются завоевать новые вершины спортивных достижений. Они превосходят свои функциональные ресурсы, и физиологические возможности организма не соответствуют требованиям, которые они сами к себе предъявляют в поисках рекордов и новых чемпионских званий.
В силу таких чрезмерных нагрузок в их организме могут развиться патологические изменения в сердечно-сосудистой системе, когда сердце не будет справляться с нагрузками. Проявляется это следующим образом: увеличение толщины стенок сердца, оно становится более мощным, однако одновременно с этим и повышается потребность сердца в кислороде и питательных веществах. После 40 лет у спортсмена могут развиться осложнения на фоне развития атеросклеротического поражения сосудов сердца или гипертонии, в таком случае возникает риск осложнений.
При больших нагрузках может повыситься артериальное давление до чрезмерных величин или нарушиться сердечный ритм: это может быть экстрасистолия, тахикардия и более серьезные нарушения, некоторые из которых опасны для жизни. Например, пароксизмальная желудочковая тахикардия.
В таком случае спортивные врачи и кардиологи сталкиваются с понятием «синдрома спортивного сердца», когда обычная рабочая гипертрофия сердца, адаптирующая его к физической нагрузке, сменяется уже развитием некоторых патологических симптомов. И, как правило, речь идет о любителях бега на длинные дистанции или спортсменах, увлекающихся экстремальными и предельно допустимыми для человеческого организма нагрузками.
Фото: пресс-служба правительства Ярославской области
— Часто говорят о пользе бега и динамических физических нагрузок, действительно ли это так?
— Благо может перейти во зло. Конечно, лежебока и лентяй рискует развитием многих болезней дегенеративного характера — ожирение, гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца — это другая крайность. Гиподинамия — проклятие современного образа жизни, виной которому служат компьютер, автомобиль, кабинетный тип работы, малоподвижность, в конце концов, обычная человеческая лень.
Но если речь идет о спортсмене, то надо учитывать функциональные ресурсы, которые могут быть ограниченными. Марафон — это не только нагрузка на сердце, но и экстремальная физическая тренировка для всего организма: идет нагрузка на опорно-двигательный аппарат, позвоночник, суставы и дыхательную систему. Особенно в жаркую погоду, когда человек теряет по четыре-пять литров жидкости. Ее надо восполнять электролитными составами или водой.
Фото: «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» / VK
О важности медицинского осмотра перед забегом
— Нужен ли медицинский осмотр, чтобы выяснить степень готовности организма и сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам?
— Если медицинский осмотр перед участием в соревнованиях проводился слишком поверхностно и формально, то малоподготовленный человек может даже попасть в список претендентов на победу. Он уверенно начнет свой марафон, но ему не хватит ресурсов из-за того, что не выявлено какое-то скрытое заболевание сердечно-сосудистой системы.
У молодых людей может быть врожденная патология. Чаще всего это связано с гипертрофической кардиомиопатией — формой врожденного заболевания сердца, когда одна из стенок сердца значительно утолщается и перекрывает выход из левого желудочка в аорту, препятствуя таким образом нормальному кровотоку. Когда человек занимается физическими упражнениями, тем более бесконтрольно, то увеличение тонуса утолщенной межжелудочковой перегородки может вызвать развитие остановки сердца.
Чтобы быть спокойным за судьбу спортсмена, особенно тщательно нужно обследовать сердечно-сосудистую систему.
— Какие обязательные обследования входят в этот перечень?
— Необходим контроль кардиограммы. Также очень желательно провести эхокардиографические обследование, которое позволяет выявить многие врожденные и приобретенные заболевания сердца, клапанов и аппарата.
Людям за 30 лет нужен анализ крови на уровень холестерина, липидов, липопротеидов и более сложные методы магнитно-резонансной томографии.
Также используется целый ряд тестов — велоэргометрия, степ-тест, тредмил — это известные всем докторам методы функциональной диагностики для выявления скрытых дефектов.
В марафоне иногда сотни или тысячи людей принимают участие, поэтому надо принять во внимание то, что называют «предстартовой лихорадки», когда люди толпятся у стартовой линии. Они волнуются, и возникает выброс адреналина в крови. Характер этого соревновательного настроения может тоже отрицательно сказаться и вызвать нарушение сердечного ритма, которых мы очень опасаемся.
В большинстве случаев, когда речь идет о самых драматических или трагических последствиях, мы говорим о «внезапной сердечной смерти», связанной с острым развитием аритмии — фибрилляция желудочков. Это состояние требует немедленной помощи, спортсмен в считанные минуты может умереть. Важно, чтобы врачи или фельдшера были готовы к такому развитию событий и всегда имели возможность немедленно оказать помощь, в том числе реанимационную.
— Смерти молодых бегунов часто называют «внезапной сердечной смертью», бегуны же старшего возраста умирают от сердечного приступа?
— И у людей постарше может быть внезапная сердечная смерть, но причины разные. У молодых спортсменов чаще всего это связано с врожденной патологией сердца, или его проводящих путей, или других пороков сердца. У лиц постарше, 30-35-летнего возраста, в организме начинаются некоторые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Например, повышается артериальное давление, развиваются первые признаки атеросклеротического поражения сосудов, питающих сердце. В этом случае привычная для них спортивная нагрузка может стать опасной.
— Допустим, спортсмен выходит на подготовку. Какие признаки при беге могут указывать на отклонения в здоровье и служат сигналом к немедленному обращению к врачу?
— Если он чувствует при беге чрезмерную одышку, появления слабости и чрезмерное сердцебиение. Некоторые могут чувствовать нарушение ритма в виде толчков, перебоев, пауз в работе сердца, или появляются боли в области сердца за грудиной в левой половине грудной клетки — все эти признаки требуют особого внимания. При их обнаружении нужно немедленно прекратить движение по дистанции и обратиться к врачу. Эти симптомы надлежит очень аккуратно контролировать и не допускать их появления.
Фото: «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» / VK
Какие существуют риски и дополнительные факторы, которые могут повлиять на здоровье
— Является ли спринт более опасным, чем марафон, так как повышается частота сердечных сокращений?
— В данном случае катастрофа может наступить не от утомления, обезвоживания и нарушения электролитного баланса, а именно от чрезмерного и запредельного повышения пульса, что может вызвать развитие фибрилляции желудочков.
Спринтовые дистанции — это 10-20 секунд, но за этот период времени требования к сердечно-сосудистой системе возрастают от состояния покоя до предельно допустимой физической нагрузки, достигают иногда двухсот и более сердечных сокращений в минуту. Такого рода взлет частоты сердечных сокращений опасен. Это находится на физиологическом пределе человека.
Людям, занимающимся большим спортом, нужно провести велоэргометрическую пробу, когда человек под наблюдением врача с наличием датчиков на грудной клетке для измерения давления находит свой предел, который можно допустить и во время соревнования.
— Какие возрастные группы находятся в зоне риска?
— Первое начальное проявление атеросклеротических поражений сосудистой стенки — холестериновые бляшки — начинают появляться очень рано, на втором-третьем десятилетии жизни. Это молодые люди, не знающие, что такое стенокардия, ишемическая болезнь сердца и так далее.
Если человек обременен какими-то другими факторами риска — курение, избыточное потребление алкоголя, стрессовые воздействия или наследственные проблемы, — тогда эти проявления у него могут развиться с 30 лет.
Чем старше человек, тем выше риск развития осложнений, после 30 лет к ним надо быть особенно внимательным.
Речь идет в большей степени о мужчинах, потому что у 40-45-летних женщин сохраняется нормальное физиологическое состояние сердечно-сосудистой системы. У мужчин мы нередко сталкиваемся с инфарктами в раннем возрасте — в 28 и даже 25 лет.
— Какие дополнительные факторы могут повлиять на здоровье во время бега на длинные дистанции?
— Жара, легкое простудное заболевание, дефекты питания — все это может спровоцировать у спортсмена развитие сердечно-сосудистой катастрофы. Описаны случаи смертельных исходов на дистанции. Чаще всего речь идет о последних километрах, когда уже истощены все ресурсы, нарушен электролитный и водный баланс организма и нет возможности вовремя их пополнить. Тогда чаще всего и наблюдаются неблагоприятные исходы, включая внезапную сердечную смерть.
— При какой температуре воздуха бег становится противопоказан даже абсолютно здоровым спортсменам?
— Точной цифры нет, потому что индивидуальная переносимость высокой температуры у всех разная. Это зависит от состояния здоровья человека, который занимается спортом. Людям средней полосы, которые не привыкли к жаре, при температуре выше 30 градусов лучше не увлекаться такими видами спорта. Я бы не советовал выходить на длительные дистанции в сильную жару.
Фото: «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу» / VK
Вода и правильное питание важны для спортсмена
— На дистанции стояли ворота-поливалки с водой для спортсменов. Помогает ли это?
— Конечно. Отдача внутреннего тепла наружу за счет испарения пота — это замечательно. Если помочь спортсмену, обрызгав водой, то термоотдача усиливается, и состояние человека облегчается.
Жара — это огромная нагрузка на организм, поэтому нужно обязательно защищаться от солнца — шапочкой или кепкой, позволяющей избежать прямых лучей. Иначе можно получить солнечный удар за три-четыре часа марафона.
— Сколько нужно пить воды во время бега? Как сохранять водный баланс, особенно в жаркую погоду?
— Это важно, особенно если речь идет о длительных пробежках. Обычно считают по следующему соотношению: 250-500 миллилитров воды на каждые десять километров.
При жаре можно чаще — каждые 20 минут восполнять дефицит воды, потому что обезвоживание приводит к сгущению крови, которое несет за собой риск развития тромбозов. И становится тяжелее снабжать мышцы энергией, потому что густая вязкая кровь труднее дает в них кислород.
Желательно употреблять воду, обогащенную калием, магнием — жизненно важными электролитами.
— Каким должно быть питание бегуна и нужно ли соблюдать диету всегда или только непосредственно во время подготовки к дистанции?
— Мы иногда называем этот тип питания средиземноморской диетой. Это оптимальная диета для человека, включающая в себя свежую пищу, богатую витаминами: фрукты, овощи, яйца, ягоды, орехи, цельнозерновой хлеб, каши, крупы.
Белковые продукты питания — это белое мясо птицы, индейка, куры, постные сорта баранины, телятины, нежирная свинина. Для спортсмена — примерно полтора грамма белка на один килограмм веса.
Далее — рыба. Она содержит в себе великолепный белок и высококачественные жирные омега-кислоты, полезные для сердца.
Ограничить употребление спиртных напитков и энергетиков — это бессмысленно и ненужно. Избегать трансжиров из фастфуда — в забегаловках много вкусных, но вредных продуктов для сердечно-сосудистой системы.
Эпизодически можно позволить себе отклонение от этих рекомендаций. Но лучше использовать натуральные продукты питания. Особенно в летнее и осеннее время, когда они богаты витаминами, содержат огромное количество калия, магния и микроэлементов, полезных для сердца.
— Каким образом на организм влияет прием энергетиков на регулярной основе и непосредственно перед бегом?
— Я считаю, что от них нужно отказаться, потому что они стимулируют ненужным образом все наши энергетические ресурсы. Лучше использовать собственную систему энергообеспечения с помощью здоровых натуральных продуктов питания. На энергетики не надо уповать.
— Какие есть советы и рекомендации для спортсменов, которые хотят пробежать марафон или полумарафон?
— Первый и главный вопрос: нужно ли вам это? Задайте себе вопрос, нужна ли такая нагрузка, есть ли потребность что-нибудь доказать в этой жизни или риски для жизни все-таки превалируют? Не забываем, что риски, особенно у спортсменов второй половины жизни, растут с возрастом.
Если вы все-таки решите испытать себя и свой организм, то первое и главное — это пройти полноценное врачебное исследование, желательно с участием кардиолога и спортивного врача. Если он дает добро — начать тренировки, постепенно расширяя диапазон своих возможностей. Небольшие пробежки чередовать с ускоренной ходьбой, увеличивая нагрузки. Около года систематических тренировок. За два-три месяца от нуля до марафона этот путь пройти невозможно. Торопиться не надо, лучше набраться терпения и подготовиться к марафону основательно.
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».
Ярославцы во время прогулок по городу, наверное, не раз замечали артистов, приручивших стихию и выступающих с огнем — захватывающие дух файер-шоу. Артистов огненного шоу можно было видеть и на недавнем Дне города около ТЮЗа. Но мало кто знает, что эти ребята из театра огня «Piligrims».
Артисты этого театра управляют огнем под славянскую музыку и металл и при помощи огня показывают людям красочные истории, основанные на сказаниях всех народов мира.
«Яркуб» встретился с Иваном Першаковым, лидером и артистом ярославского театра огня «Pilgrims», и взял у него интервью. Иван рассказал, сложно ли совладать с огнем, как он стал файерщиком, о травмах и разных шоу.
 Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Фото: Анастасия Соколовская
— Не будет вопроса, вкусный ли керосин? Пожалуйста, скажи, что нет. Это самый глупый вопрос, оскорбительный вообще! — начинает разговор Иван.
— Нет, такого вопроса не будет. Мы поговорим о другом. Есть ли коллективы огненных шоу в Ярославле кроме вас?
— Конечно. Есть старые и молодые коллективы. Сейчас здесь занимаются два молодых коллектива, один мы — театральный коллектив, другие — ребята из «ЯрУльф». Мы сейчас репетируем выступление, поэтому на тренировке только те, кто выступает. Но состав у нас побольше.
— Сколько у вас в команде человек?
— У нас клуб делится так: есть основной состав, который ездит на заказы и выступает. Есть те, кто только учится. На данный момент у нас в коллективе 15 человек — это немного.
— Как начать заниматься файер-шоу, как стать файерщиком?
— Я в это пришел так: год назад проходил по улице Кирова, там ребята занимались, я увидел — мне понравилось, и захотел учиться. Одно время занимался с ними несколько месяцев. Потом разошлись, с тех пор сам занимался по интернету. На просторах «YouTube» и «ВКонтакте» очень много людей, кто выкладывает обучающие видео на эту тематику.
Есть движение flow-art — искусство потока, если правильно называть, а включение реквизита с огнем — это уже файер-шоу. Суть в том, что это все из слова «арт» исходит. У нас сообщество в стране неоднородное. Есть очень отзывчивые коллективы, которые новичкам везде помогут, есть те, кто только ругаются. Есть много разных проектов. К примеру, ребята из «Sub Rosa» из Смоленска — очень приятные отзывчивые люди. У этих ребят альтернативный театр.
 Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Фото: «Театр огня Piligrims» / Vk
— Получается, что это искусство. Не расцениваете именно как хобби или увлечение, и вы позиционируете себя как артисты?
— Именно искусство. Мы, наш клуб, себя больше как актеры позиционируем. У нас в планах ставить спектакли с огнем. Сейчас мы с ребятами из рок-группы пишем музыку и хотим поставить рок-оперу с огнем. Спектакль про пиратов с огнем и сражениями. Но мы пока еще артисты.
— Какая музыка обычно сопровождает ваши выступления?
— Мы очень разноплановые в этом плане, поэтому и название клуба «Piligrims». Мы используем разные мотивы в своих выступлениях, в данный момент мы занимаемся тематикой страшных сказок — мрачность, ведьмы. По музыке это «Канцлер Ги», «Мельница», «Король и шут».
Есть у нас номер на рок-тему с песнями «AC/DC» и «Scorpions». Есть на славянскую тематику — народные костюмы, сарафаны, рубаха, шаровары. Одно время был стимпанк — пар и шестеренки. Сейчас мы программы немножко переделываем, чтобы с ней выступать.
Одно из наших самых любимых направлений тематических — Азия. Большая часть азиатских выступлений под музыку «Free Flow Flava». Надеваем азиатские шаровары, кимоно, маску демона Они. Мы развиваемся в разные стороны. Какие-то клубы делают своей тематикой что-то одно. Допустим, «ЯрУльф» — викинги по большей части. Тоже очень классные ребята.
 Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Фото: «Театр огня Piligrims» / Vk
— Нужна ли какая-нибудь физическая подготовка файерщику?
— Да. Файер-шоу — это такая вещь, где нужна и физическая подготовка, и выносливость, акробатика, пластика. Каждая наша тренировка начинается с разминки всех суставов. Учитывая, что мы в клубе еще потихонечку начинаем ставить фехтование на макетах холодного оружия, затупленных и с фитилями с огнем, физическая форма нужна хорошая.
— Долго ли нужно отрабатывать элементы и трюки? Есть ли классификация трюков?
— Их, скорее, надо показывать, потому что сказать сложно. Но любой элемент необходимо отрабатывать до момента, пока он не будет у тебя чистым. До тех пор, пока ты не будешь зацепляться за себя, будешь крутить ровно в плоскости, и не будет кривых плоскостей. Зависит от человека, кому сколько на это времени необходимо. Если у человека есть какая-то подготовка, например, если занимался танцами, то он быстрее схватывает. Чтобы выступать с огнем, надо знать как минимум несколько связок, делать их чисто грамотно.
— Какой из элементов считается самым опасным или самым сложным?
— Это сложный вопрос, потому что все трюки и любая работа с огнем включают определенную долю риска. Насчет самого сложного элемента не знаю, я не умею делать что-то безумно сложное. Я занимаюсь с посохом — это любимый реквизит. На нем самые сложные элементы контактные, когда катаешь по телу реквизит, то есть ты его не держишь руками. И какой среди них всех сложный? Это очень хороший вопрос, потому что они все сложные!
— Какие травмы поджидают человека, который решает заняться огненными шоу?
— Если человек все делает грамотно, соблюдает технику безопасности и тренируется часто, то вероятность получить какую-либо травму низкая. Если человек неподготовленный, особо ничего не умея, берет реквизит с огнем, он может обжечься. И синяки, очень много синяков. Особенно если ты занимаешься с палкой. Крутишь палку или пои, сбил плоскость — синяк, потому что они тоже тяжелые.
 Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Фото: Анастасия Соколовская
— Как защищает себя артист от огня во время выступления?
— Во-первых, используется ткань для костюмов, которая плохо горит. Во-вторых, никогда не должно быть распущенных длинных волос. Всегда на площадке присутствуют огнетушители, асбестовое одеяло, на которое кладется реквизит, брезентовые тряпки сырые, чтобы ими можно было перекрыть кислород, чтобы реквизит или человек погас.
— Как изготавливается инвентарь, который используется в выступлениях?
— Его многие делают сами, многие заказывают. По России много мастерских, которые изготавливают. У нас в стране искусство flow-art — одно из самых развитых в мире, потому что много конкуренции — страна большая, и коллективов много.
— Сложен ли процесс согласования площадки для шоу с администрацией?
— Я беру разрешение в администрации. Там собирается совет, пожарные, МЧС и меня одобряют. Дальше огораживаем с ребятами площадку, подготавливаем музыку, огнетушители, вспоминаем технику безопасности полностью и выступаем.
Сам процесс согласования простой, особенно в Ярославле. У нас очень хорошая отзывчивая администрация, особенно в Кировском и Ленинском районах. Мы несколько раз собирали комиссию. Ее собирают быстро, буквально за неделю. Я прихожу и рассказываю, мне говорят, что и где исправить, если нужно. И все.
Допустим, в Костроме я хотел организовать несколько стритов — выступлений на улице, у меня это не получилось, потому что там сложнее. У нас в городе лояльно относятся, и это радует.
— А для окружающих может быть опасным огонь?
— Если все сделано с соблюдением техники безопасности, то нет. В любом случае расстояние от артиста до зрителя должно быть не менее пяти метров. Если используется правильное топливо. Вообще, в сообществе очень долго идут споры, на чем выступать. Бензин, керосин, парафин. Безопаснее всего парафин, потому что он не горит на плоскостях как бензин. МЧС рекомендует керосин и парафин.
Для зрителей это безопасно, если выступает человек, который уже работал с огнем и все умеет.
 Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Приручившие стихию: интервью с артистом огненных шоу в Ярославле
Фото: Анастасия Соколовская
— Техника безопасности очень важна, получается.
— Техника безопасности — это кредо. Она написана кровью.
— Что нравится публике больше всего в таких шоу?
— Публике больше всего нравится, когда побольше огня и побыстрее крутят. Если ты будешь делать два разных, но похожих элемента, обычный зритель не поймет разницы. А человек, который занимается, он увидит все твои ошибки, все косяки. Публика редко это видит. Это не повод делать плохо для публики. Это повод для того, чтобы публика училась и различала, что хорошо, а что плохо.
— Есть ли у файерщиков свой профессиональный сленг, который вы используете?
— Да. Все названия реквизита. Допустим, «стафф» — это посох. Самое главное, что сленг разнится местами в городах. Какие-то элементы называются по-разному и в городах, и в мире. Что тебе скажет слово замочка? Замочка — это место, где замачивают реквизит.
У реконструкторов тоже есть свой сленг. Они людей, которые не занимаются реконструкцией на фестивалях, называют «цивилы», к примеру. И вообще сленги разных профессий надо учить, потому что это полезно. Ты можешь тогда знать, что о тебе думают артисты.
1 сентября наступил первый школьный день не только для учеников, но и для учителей. Дарья в этом году окончила университет с красным дипломом и сразу пошла преподавать английский язык в среднюю школу «Провинциальный колледж». Новый учебный год она начинает не только как педагог, но и как классный руководитель.
Корреспондент «Яркуба» взял у нее интервью. Дарья рассказала о первом Дне знаний, родительском собрании и желании создать дружелюбную атмосферу в классе.
 «Я оказалась по другую сторону парты»: молодая учительница английского о первом рабочем дне
«Я оказалась по другую сторону парты»: молодая учительница английского о первом рабочем дне
На снимке Дарья (Фото: «album» / Vk)
— Какой университет ты закончила?
— Институт иностранных языков в ЯрГУ имени П. Г. Демидова.
— Почему решила преподавать в школе, ведь закончила не педагогический?
— Я начала преподавать еще в 18 лет, устроилась на подработку в онлайн-школу. Я общалась со взрослыми людьми со всей России, учила их английскому, было очень интересно. Для меня было удивлением, что по окончании курса многие говорили, что им было приятно и понятно со мной работать. Мне было очень непривычно от того, что люди намного старше меня воспринимали вчерашнюю школьницу совершенно самостоятельным преподавателем. Тогда я почувствовала, что у меня получается учить людей, мне нравится делиться с ними тем, что я знаю, и мне хочется помогать им узнавать новое. Так я и задумалась о том, чтобы поработать педагогом.
В университете, хоть он и не педагогический, у нас все равно были курсы, связанные с методикой преподавания английского языка, поэтому и образование мое для этой сферы подходит. Так как-то все и сложилось.
— Какие ощущения от первого Дня знаний не в качестве школьницы и студентки?
— Комплексные, я бы сказала. Мой первый «свободный» День знаний все равно прошел в школе, только я оказалась по другую сторону парты. Много новых людей, новых обязанностей и новых эмоций. Первый опыт — это всегда сложно и волнительно.
Нужно было совместить организационное собрание и праздник: рассказать все самое важное о режиме работы школы и сделать первый день для моего 10-го класса приятным и комфортным. Не хотелось сухо проводить классный час, поэтому мы устроили чаепитие. К нам приходили ребята из 11-го класса, делились своим опытом, все знакомились. Надеюсь, атмосфера получилась домашней и теплой.
 «Я оказалась по другую сторону парты»: молодая учительница английского о первом рабочем дне
«Я оказалась по другую сторону парты»: молодая учительница английского о первом рабочем дне
Фото: «album» / Vk
— Сразу классное руководство: расскажи о детях? Быстро ли наладился контакт?
— По первому сентября о классном руководстве и о детях говорить что-либо сложно. Они вели себя очень приятно и внимательно меня слушали — это сильно порадовало. Пока сложно сказать по одному дню, как у нас с ними построятся отношения в дальнейшем. По крайней мере, они приветливые. Все меня спрашивают, не боятся со мной разговаривать. Это здорово. Так и надо работать.
С ребятами мы будем устанавливать хорошие доверительные отношения. Хочется, чтобы им нравилось учиться в «Провинциальном колледже» так же, как и мне когда-то, потому что я там училась.
— Уже и родительские собрания проводишь?
—Я провела одно вводное родительское собрание. Мне помогли в его проведении завучи, написали мне памятку, что необходимо сказать, какую информацию предоставить родителям. Ко мне на собрание пришла Елена Романовна, директор школы, поддержала. Сложно и неловко проводить собрание, когда тебе 21 год, а слушать тебя должны взрослые люди, но поддержка коллектива мне очень помогла.
— Расскажи о первом уроке. Как к нему нужно готовиться?
— Первого урока у меня еще не было, но я уже готовлюсь встретиться с ребятами из разных классов. Я считаю, что на первом уроке важно познакомиться с преподавателем и лучше узнать одноклассников, поэтому подготовила пару упражнений для групповой работы. Они расскажут о себе, своих увлечениях, покажут знания языка. Нужно, конечно, проверить и уровень их английского, поэтому от первой самостоятельной никуда не деться.
Читайте новости в социальных сетях! Подписывайтесь на «Яркуб» во «ВКонтакте» и «Телеграме».
Анель Милинская — поэтесса из Ярославля, которая публикует свое творчество в социальных сетях и выступает на открытых микрофонах. В ее группе «агрессивные стишки анель милинской» 400 подписчиков. А не так давно она на фестивале «Ярославцы все красавцы» в музее-заповеднике читала свои стихотворения и исполнила авторскую песню. Анель всего 18 лет, а она уже известна в узких литературных кругах города.
Мы встретились с молодой поэтессой и поговорили о первых шагах в литературу, об отношении к современной поэзии и искусству, неприглядных уголках нашей жизни, вдохновении, творческом кризисе и андеграунде.
О современном искусстве и поэзии
— Ты поэт или поэтесса?
— Я поэтесса. Я не Цветаева и не Ахматова, чтоб выпендриваться и говорить «не называйте меня поэтессой, называйте меня поэтом». Слово «поэтесса» мне больше нравится, с точки зрения благозвучия оцениваю, оно такое игристое. Если меня кто-то назовет поэтом, мне слух это не режет, но я сама себя называю поэтесса Анель Милинская.
— Ты выкладываешь свои стихотворения во «ВКонтакте», для этого даже существует термин «сетевая поэзия». И многие с пренебрежением относятся к сетевой литературе, особенно к поэзии. Ведутся целые дискуссии, был круглый стол с авторами и литературоведами. Что скажешь по этому поводу, насчет пренебрежения?
— Начнем тогда плавно с меня. Я выкладываю не только «Вконтакте», я еще и в «Инстаграме»* (признан экстремистской организацией на территории РФ. — Прим. ред.). А почему? Я пишу с раннего детства. Начала выкладывать именно потому, что поняла, что мне это нравится, я хочу более профессионально сделать, позиционировать себя. Я банально не знала, где начать, куда выкладывать. Первое, что мне пришло в голову — у меня много друзей «ВКонтакте». И, как мне показалось, продвигаться легче будет именно там, рекламу покупать и так далее, если в далекое будущее смотреть. Поэтому я создала группу.
А про дискуссию по поводу сетевых поэтов — я не понимаю этого. Я, честно, слышу это первый раз, но могу сказать лишь одно: если люди оценивают качество продукта исключительно из того, откуда он исходит, а не оценивают его содержание, то эти люди с большой натяжкой называют себя литературоведами. Допустим, если бы Маяковский или Мандельштам жили в наше время и начали бы выкладывать те же стихи, но только во «ВКонтакте», они от этого бы хуже стали?
— У тех, кто против, понимаешь, главный аргумент такой, что вот с интернетом все стало доступнее, в него пришло много людей. Из-за этого много людей приходят в литературу, они не проходят качественный отбор.
— Качественный отбор люди проходят. Когда не было интернета, определенная прослойка людей, которых оценивали как бездарных, которые писали посредственность... Не буду говорить опрометчиво, кто и что писал, не буду тыкать пальцем, но все равно такие люди всегда были... И будут. И вопрос, печатаются ли они в сборниках или они выкладываются в интернете? Время расставит по своим правилам, кто чего заслуживает по итогу.
Что плохого в том, что поэт может сразу опубликоваться? Все равно ты долго не получаешь признания, тебе нужно везде проявлять себя, везде выступать, постоянно цепляться за каждую возможность, продвигать себя — я даже не знаю, что хуже. Я с ними категорически не согласна. Наверное, те люди сами так не публиковались, поэтому судят со стороны так опрометчиво. Я их понимаю и на них не злюсь.
— Ругают сетевую литературу, ругают и современное искусство. Говорят, художник кому-то что-то должен. Поэт, художник слова, он должен что-то кому-то? Ты чувствуешь, так сказать, свой долг перед народом? (смеемся)
— Ну, перед народом... Пока народ обо мне не знает в большой массе, меня знает человек 800, дай бог...
Смотри, чувство долга у человека появляется из личных соображений и пониманий этого мира. Конечно, мне говорят, что я должна писать в своих песнях и стихах что-то более позитивное. Но я уже прошла тот момент, отвязала от себя все долговые ниточки и понимаю, что никому ничего не должна. Единственный мой долг — делать искренне то, что во мне действительно есть. Если я начну писать, чтобы просто писать, заполнять бумагу, тогда я предам и себя, и тех людей, которые искренне ждут того, что я им обычно приношу, то есть себя. В поэтической форме, в форме песен, в форме очерков — не важно. Они получат плацебо, ненаполненное ничем, у них есть все права сказать мне: «Анель Милинская, до свидания, зачем нам такое?»
К современному искусству какие вопросы? Что вы должны? Придерживаться классики или...?
— Я думаю, тут идет разговор больше о смысловой наполняющей и том, что художники, писатели, должны нести в своих произведениях мораль. В современном искусстве этого нет, потому что с 90-х в литературе началась чернуха жесткая, очень много ее критиковали за это. Появлялись произведения про детские лагеря, общественность их не принимала, а вот чего-нибудь светлого, где какая-нибудь мораль выводится, как у того же Пушкина, стало меньше, и ругают за это. Как раз общественность, а не критики.
— Ругать поэтов за то, что они начали писать в основном что-то мрачное — это очень странно. Поэты лишь проецируют реальность, они являются показателями общества. Все творческие люди реагируют на мир творчеством. Как мир им дает такой толчок, так они по инерции будут писать.
Мы, наверное, понимаем все, что мы живем в очень непростое время. Особенно 90-е и 00-е, когда мрачина начала накатывать. Не соглашусь, что она не существовала во времена Пушкина. Извините, XIX век — это и Достоевский. Рассказы про дворы Петербурга, про работу проституткой, чтоб семья выжила, а кто-то повесился, потому что его изнасиловали — не пышет красками. Вдобавок у Пушкина тоже есть мрачные произведения, если в детали уйти, там можно полысеть и поседеть сразу же.
Современное общество такой дает отклик. Сложное время у нас, удивительное, есть множество позитивных произведений... Не соглашусь, вопрос в том — на что обращать внимание.
— Но тот же Достоевский с его проститутками и неприглядным Петербургом. Его «Преступление и наказание» в конечном итоге все равно несет в себе христианские ценности, христианскую мораль.
— Ты вот сказал про лагеря, мне почему-то вспомнился «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича» или «Котлован» Платонова. Они мрачные просто до ужаса. При этом они не несут в себе посыл, просто он не так явен, как то, что вот в конце главный герой становится христианином. Это критика общества и показатель силы души человеческой, как человек остается человеком. «Один день Ивана Денисовича», там нет хэппи-энда, где к нему приехала его пассия, и они вместе начали преисполняться святыми писаниями. Такого нет, но он остался человеком.
Я считаю, что каждый оценивает со своей стороны. Если человек не хочет признавать, что в мире такое есть, он этого и не увидит. Часто критикуют современное искусство, что это одна грязь, но, если человек так будет думать, он не найдет позитивного ничего. Его можно только пожалеть, что он живет в такой жуткой реальности.
— Как думаешь, где проходит грань между зарифмованными строками и именно поэзией? Как вдохнуть жизнь в строки?
— Недавно у нас такая дискуссия возникла с моим очень талантливым и хорошим другом. Мы ходили на выставку наших друзей, они читали свои стихи. Они себя позиционируют как людей творческих, одухотворенных, что им вообще плевать на рифмы, строки и так далее. Допустим, это авангард, хорошо. Там был очень хороший поэт авангардист, невероятные стихи читал. Но слушаешь, и при этом как-то это все попахивает пустотой. Ты про это имеешь в виду, когда оно кажется тебе пустым? Я никогда не говорю об этом поэтам в лицо. Я могу сказать, что мне не понравилось, но сказать, что это пустышка — не скажу, это невероятно обидно. Мне кажется, что графоманию можно почувствовать, когда из пальца высосано. Или критику мира, когда она с претензией на проповедь всеобщую, когда человек себя ставит как учителя: «Вы все плохие, а я Д’Артаньян». Этот момент наступает, когда человек не вкладывает никаких личных искренних порывов, когда в нем нет порыва, это можно как пустое воспринять. Когда он есть — это чувствуется.
— Почему тоска стала основополагающим мотивом в русской литературе?
— Над этим вопросом бьется множество умов, талантливее моего. Но я этот вопрос тоже всегда отмечала. Мне кажется, это наше индивидуальное восприятие, поскольку то, что написано нашими великими предками, оно всегда имело запашок тоски. Даже сейчас мы с тобой сидим, там вот молодые люди сидят, смотришь на них, вроде они веселятся, но при этом пытаются подошву ботинка оторвать, чтобы нормально дальше пойти... Что-то есть в этом исключительно русское.
Наш климат, наша история, наше особое отношение к душевным посиделкам на кухне... У меня много знакомых из других стран. Они отмечают специфику русских людей, задумчивость, молчаливость с пребыванием во внутреннем мире, когда ты наедине с собой анализируешь все. Тот же Пушкин:
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...
Такая светлая печаль всегда присуща человеку. Он сидит, преисполняется природой и чувством, что сердце горит вновь от того, что не любить оно не может. Светлая печаль, что-то исключительно внутреннее, то, что мы осознаем, культивируем, и оно в нас развивается.
— Век золотой, серебряной, какой сейчас?
— Как у меня написано в описании группы, «поэт хрустального века в бабкином шкафчике-стенке». Я называю наш век хрустальным. Невероятно хрупкий, на грани реальности и нереальности, переходный, невероятно сложный. Мне кажется, человечество стоит на перепутье очень большом — пойти дальше по пути деструктива, либо пойти по пути развития.
Наш век сейчас невероятно хрупкий, и грязными руками его трогать нельзя, потому что иначе все мы получим по заслугам.
— Получается, что у людей зыбкая почва под ногами. И существует же и, наверное, в твоем творчестве попытка осмыслить, что происходит вокруг, и найти какую-то опору, чтобы устоять на этой почве. Это дух этого времени?
— Мне кажется, я почву нащупала и понимаю, что очень много людей сейчас вокруг ее тоже нащупали. Меня осознанность в людях очень и очень радует. Эта почва в себе находится. Прежде всего, разбираться в своих проблемах, призывать к осознанности то, что люди стали чаще задумываться о том, а почему я так делал? Может, мне нужны какие-то консультации специалистов? Обращаются к психотерапевту, психологу. Люди пытаются разобраться в себе, чтобы быть уверенными, понимают, что только они у себя есть. И я эту почву под ногами тоже нащупала, что исключительно в себе опоры. Мир будет меняться как угодно, но у тебя всегда будешь ты.
О творческом пути, материях поэзии и источниках вдохновения
— Ты сказала, что начала писать с раннего детства. Расскажи о своем пути в литературу и поэзию?
— Я любила в детстве рассказы придумывать на ходу, мама с бабушкой включали диктофон и записывали это. Я занималась в музыкалке, играла на фортепиано и виолончели, пыталась писать для них музыку свою, что-то придумывать. Потом во втором классе пошла литература посерьезнее, стала учить стихи. Я думаю: а это же интересно! Там Пушкин, там травка зеленеет, там «Навстречу северной Авроры». Что, если мне так попробовать? Попыталась что-то первое писать подражая. Потом я думаю: есть какие-то пейзажи, надо их попробовать описать в рифму. И вот так к чему-то более серьезному начала переходить.
Потом был литературный кружок «Парабола» в Некрасовской библиотеке, известный в узких литературных кругах. Не сказать, что я занималась там, сначала ходила, потому что мама следила, а потом стала оттуда планомерно сбегать. Далее это все стало становиться серьезнее, все больше заполняло меня и становилось более неотъемлемой частью моей жизни.
Лет в 14-15 я создала свою группу. За три-четыре года я поняла, что это моя профессиональная деятельность. Когда я начала публиковаться, я уже пыталась позиционировать себя как поэтесса. Первые стихи — это курам на смех, не меньше. Такая прелесть, такие они наивные, красивые, милые, очень их люблю и ценю! Очень люблю ту себя, которая их писала, такая вся солнечная, юная, хорошая.
Последние года два я занимаюсь постоянно выступлениями и позиционирую себя одновременно как музыкант и как поэт. Примерно такой путь. Он еще будет долго, надеюсь, развиваться, дальше стелиться эта дорожка, поэтому интересно, чем это все закончится.
— Давай поговорим о твоих живых выступлениях. Как понимаю, ты же выступаешь в основном на небольших, камерных квартирниках?
— Но почему? Есть мероприятия разные, но в основном да, я выступаю на открытых микрофонах, квартирниках. Сама их организовывала несколько раз, у нас был такой опыт с творческой группой. Недавно я выступала в нашем музее-заповеднике. Не сказать, что мероприятие супер-огромное, на которое вся область приехала, но людей было очень много. Я была на поэтической площадке, читала стихи и пела, чтоб заполнить время. Это было для меня большим мероприятием, ну и гонорар тоже был большим.
— Насчет гонорара. Ты уже зарабатываешь своей поэзией?
— Это заработком, конечно, назвать смешно, но иногда что-то есть, иногда что-то нет, потому что я выступаю у своих знакомых. Они говорят: «Мы тебе рекламу, а ты у нас выступи», я говорю, что реклама лучше, чем деньги.
— Фестиваль «Ярославцы все красавцы» — официальное мероприятие. Каково выходить из андеграунда?
— Из андеграунда я не вышла, я принесла его с собой. Единственное, что меня смутило на таком мероприятий — очень много пар с детьми, семьи. Дети там самые разные. 14-15 лет — это близко к моей аудитории, но там были и детишки лет 8-10. Конечно, я понимаю, что все дети абсолютно разные, допустим, я уже в десять лет преисполнялась «Мастером и Маргаритой». Они меня стоят и слушают, меня это больше всего смущало, потому что у меня есть строчки достаточно резкие, мрачные достаточно. Когда я пою «иконы плывут по паркету соседей», и девочка пяти лет стоит качает головой в такт песне — хотела смеяться дико. Я смотрела на ее родителей — тоже в восторге. Думаю, раз все довольны, меня никто не отругает. У меня в поэзии и в песнях, в отличие от моей повседневной жизни, мата нет. Я матерюсь как сапожник только в обыденности.
— Ты занималась в музыкалке, получается, что поэзия и музыка у тебя в жизни с детства шли параллельно. У тебя есть песня под гитару, в группе видео, где за фортепиано читаешь свои стихотворения. Почему ты решила переложить стихи на музыку, решила соединить эти два занятия?
— Я их не соединяю. Они всегда были в моей жизни. Музыка у меня с самого рождения всегда была, потому что у меня мама музыкантка, музыкального образования не имеет, она художница, но фортепиано в квартире звучало всегда. С детства меня сажали за него, что-то показывали, и это всегда было частью меня. Меня это напоминало с самого рождения, новорожденную клали к фортепиано и играли мне что-нибудь.
Я не соединяла это, поэзия всегда идет отдельно, музыка отдельно. Но иногда бывает, думаю: «О, этот текст стихотворения, к нему подойдет эта мелодия». И оно само склеивается. Я даже себя не люблю позиционировать как поэтесса, музыкантка, потому что это все определение. Я считаю, что определение — это равно ограничения.
Я человек творческий, который просто творит в любых проявлениях. Я почувствую то, что я через танец хочу проявлять — я начну танцевать. Одно время я писала картины, последние четыре месяца я ничего не пишу, не идет. Это все об одном — разные интерпретации моих внутренних состояний, мыслей, наблюдений.
«Свечение»
— А что ты сама слушаешь? Жанр музыки, исполнитель, группа?
— У меня нет любимого жанра. Я безумно люблю классическую музыку, психоделический рок и одновременно могу послушать Боярского, что мне в этом случае сказать? Я могу назвать любимых артистов. «Depeche Mode», «Pink Floyd», «Сплин», Земфира и Хаски.
— В группе ты упоминаешь творческий кризис. Как ты с ним справилась?
— Ко мне, выбив с ноги дверь в квартиру, зашла муза и сказала: «Знаешь, мы с тобой давно не виделись, а давай-ка я у тебя посижу, чаю попьем», подлила мне в чай коньяк. И я опьянела от того, что она ко мне снова вернулась, и начала строчить дальше.
Сейчас... То ли она где-то рядом ходит, мы с ней не пересекаемся, то ли она рядом с нами, но пока она далеко от меня. Творческий кризис регулярно. Когда они слишком затяжные, я понимаю, мне в группу выложить нечего, она стоит. Когда группа стоит, люди начинают отписываться. Я посижу, подумаю, дайте мне время, я хоть что-нибудь, какой-нибудь актив стараюсь сделать. Кстати, как раз-таки чем сложнее быть сетевым поэтом.
— О влиянии на твое творчество, твоих источниках вдохновения. Что и кто на тебя влияют?
— На мое творчество влияет мироздание в целом. Я не контролирую, когда я вдохновляюсь. Любой творческий человек меня, наверное, поймет. Когда ты вдохновение ловишь, оно как будто откуда-то сверху приходит. Ты можешь быть в какой-то момент жизни настолько наполнен, у тебя столько мыслей, но ты садишься писать... Но не идет у тебя и все, все не идет никак.
Что меня вдохновляет? Если конкретизировать мой ответ, то это люди вокруг. Потому что, прежде всего, вдохновляюсь людьми, их состояниями, словами, я их тонко умею цеплять, перекладывать их через себя и через свою призму. И выпускаю это в творческом формате. Это как обложка «Пинк Флойд», где луч распространяется в радужный спектр. Вот так же можно объяснить.
Отголоски, наверное, можно найти в творчестве моем тех поэтов и писателей, которых я люблю. Из русских это однозначно Маяковский, которого многие находят в моих стихотворениях, Борис Рыжий и Иосиф Бродский немного мелькает.
— Это правда. Про аудиторию тогда затронули. Расскажи о признании публики. Для тебя это важно?
— Конечно. Но я поправлю немножечко тогда формулировку. Мне не столь важно признание себя, сколько признание моего творчества. Мое творчество — это мое детище, которое я вынашиваю, которым я страдаю, которым дышу, пишу, и поэтому я его люблю всей своей душой.
— А кто твоя аудитория?
— Если смотреть по статистике группы «ВКонтакте», мальчиков и девочек поровну. На мое удивление я всегда считала, что я именно на женскую аудиторию, потому что такие эмоциональные страдания. Мужчины не любят показывать то, что им такое нравится в большинстве своем. Ну, видимо, я окружила себя и к моему творчеству подтянулись люди, которые отошли от этих стереотипов, люди свободные, и они открыто могут это почувствовать.
Возрастная категория от 20 до 35 — самая распространенная. И поэтому сфера деятельности самая разная. Но именно в массе своей художники творцы тоже, потому что в этой среде я варюсь, в этой среде я выступаю, оттуда в основном я и выдергиваю своего слушателя.
— Чем ты занимаешься помимо поэзии, музыки, живописи?
— Я педагог по вокалу. И по моему лицу, наверное, заметно, чем я сейчас занимаюсь. Я пирсер, это тоже мой источник дохода некий. Это тоже искусство, которое я обожаю и люблю всей душой. Это то, чем я бы захотела заниматься на постоянной основе. Даже если я, допустим, приобрету более чем локальную по Ярославлю известность, то это то, чем я хотела продолжать заниматься, потому что мне доставляет искреннее удовольствие.
— Анель Милинская — псевдоним или это настоящее твое имя?
— Мое истинное имя, но не паспортное. Я могу рассказать, как оно на меня снизошло, так скажем. Я шла и думала: «Ну, вот не мое имя, которое у меня в паспорте, я никогда его не воспринимала как свое. Это как будто пришили ко мне...». И я не знаю, услышала ли я ушами или кого-то позвали, кто-то крикнул сзади: «Анель». Вот оно! А Милинская — приснилась комбинация букв. Я нашла имя, убедилась, что это мое, и мне хорошо.
Немного анализируем творчество Анель и говорим о Борисе Рыжем
— Твоя песня под гитару. Она мне показалась по настроению романтичной, может быть, и есть в ней что-то наивное, в хорошем смысле этого слова.
— Да, она очень чистая.
— И вокал, наверное, тоже сыграл здесь свою роль. Тоже такой нежный. Стихотворения же есть у тебя некоторые, скажем, отрывистые, угловатые. К примеру, из последнего «черный слон», есть и свободные стихи. Почему такое расхождение?
— «Коммунальные квартиры» — исключение в моем творчестве. Остальные песни у меня такие же громкие, такие же резкие, такие же угловатые, как ты сказал, мне это слово понравилось. Они у меня немного декадентские. Но эта песня исключение, потому что она тихая.
Опять же, никаких ограничений нет. Я почувствую то, что я хочу написать стих две строчки или в одну строчку — я пишу. Почувствую, что меня к более-менее классическому тянет — я напишу такое. Захочу «коммунальные квартиры» написать — я напишу «коммунальные квартиры», где кошачье мяуканье, нежное, мягкое. Поэтому никаких ограничений быть не должно.
— Наверное, глупый немного вопрос такой, знаешь. Поэзия для тебя это хобби или все-таки что-то побольше?
— Это не хобби, ни в коем случае. Это не то, чем я занимаюсь в свободное время. Это именно часть меня, точнее, я часть моей поэзии. Движущая ее часть, так скажем, опорно-двигательного аппарата. Я есть у моей поэзии, а не она у меня.
— Не хотела издать свои стихотворения, какой-нибудь сборничек, распространить хотя бы даже между своими.
— Я этим очень горю. Эта идея теплится во мне, потому что как оформитель хочу себя попробовать. Помогала оформлять своим друзьям сборник и поняла, что это мое. Хочу это сама сделать для своего творчества. Но, все мы понимаем, насколько это дорого, это космические суммы.
— Чувства, эмоции, которые заложены в твоих стихотворениях. Они непосредственно твои? Создаешь ли ты лирическую героиню или героя или именно ты героиня своих стихотворений?
— Это и я, и мои лирические герои. Лирических героев у меня не счесть. Какие-то кочуют из стихотворения в стихотворение. Какие? Вы никогда не узнаете, потому что так должно быть.
Лирический герой — часть поэта, он его детище, кровь от плоти. И это всегда связано как-то с жизнью поэта. Поэтому да, это отчасти я, в большей части я, а лирический герой —доложившиеся персонажи, которые лишь помогают правильно интерпретировать. Возможно, ты когда читал, заметил то, что у меня очень много стихотворений от мужского лица написано. Я пишу в мужском роде, потому что я хочу, чтобы это было обращение к девушке от мужчины. Если я хочу, чтобы это было обращение от девушки к мужчине или от девушки к девушке, я пишу по-другому в соответствии с родами. Это всегда зависит от того, какой порыв мною движет. Исключительно от этого.
— Ты и твоя поэзия поменялись с того момента, как ты создала группу. Я заметил, что и слог изменился, и темы другие стали. Сейчас какие вопросы ты разрабатываешь в своей поэзии?
— «Черным слоном» я очертила уровень определенный, который прошла. Сейчас я вспомнила о том, что у меня много недоработанной прозы. Хочу заняться ей.
Совсем недавно, где-то примерно месяц назад, случился тяжелый инцидент. Если говорить вкратце: на пятом этаже на свою сожительницу бросился ее сожитель, шизик, и я ее защищала от него, дальше помогала ей от него уйти. И я приняла особое послание свыше, как будто бы я понимаю, что, если я разговариваю со вселенной, то ситуативно. Если что-то мне и хочет сказать мироздание, то только через ситуацию. Пришло некоторое понимание человека, принятие мироздания и человеколюбие всеобщее. Сейчас я занимаюсь тем, что принимаю весь мир окружающий со всеми его людьми, пытаюсь полюбить их всех, простить. На этом, я думаю, дальше будет развиваться мое творчество.
— Меня зацепило одно из твоих стихотворений, показалось интересным:
«эпитафия?
писать стихи на могилу при жизни
пошлость или необходимость?»
— «наверное, мне бы одного хотелось,
чтобы по мне не скорбили» ...
Как же я напугала своих друзей этим стихотворением!
— Я видел комментарии под записью.
— Там еще предисловие написано «зимой 2022 года, не стало малоизвестной ярославской поэтессы и ещё менее успешной певицы — Анель Милинской», чуть ли не даты жизни указаны. Мрачный такой юмор. Это был и перформанс, и просто мне захотелось сделать так. Я выкладывала пост ночью. Просыпаюсь от того, что наперебой мне звонят. Я вижу 15 пропущенных от разных людей: «О, господи, ты жива, что с тобой случилось? Ты дура так шутить», «Это не шутки, я поэтесса», и дальше трехэтажный мат, если не пятиэтажный. Друзья мои не все оценили этот перфоманс, мягко выражаясь, напугала их бедных. Но зато поняла, что, если как-то так произойдет, оно так всегда произойдет — все мы смертны. К счастью, я такую значимость имею, кому-то я дорога. Такое эгоистичное, приятное осознание, что кому-то ты здесь нужен.
— Это даже стихотворение не столько размышление о добровольном уходе из жизни. Если мы вернемся к Борису Рыжему, у него одно из известнейших его стихотворений «С антресолей достану „ТТ“» — размышление о том же, состояние выбора между смертью и жизнью пограничное. В итоге-то он говорит, что хочет остаться. Ты же будто наблюдаешь со стороны на уже гипотетически случившееся. Это такой вариант эскапизма или попытка примириться с неизбежным? Или еще что-то?
— Про попытку примириться с неизбежным я отсекаю сразу, потому что были в моей жизни периоды, когда я пыталась свести счеты с жизнью. Это был сложнейший период очень. Слава богу, я его преодолела, смогла найти в себе силы жить дальше. Но было, когда я закрывала глаза и думала, что все — это конец, я не проснусь. Это и есть финальная точка, точка невозврата. Не стану говорить то, что я смотрела в глаза смерти, но где-то рядом я ее чувствовала однозначно. Видимо, мироздание распорядилось по-другому. Раз я с тобой сижу здесь и разговариваю.
Я смотрю на то, что гипотетически случится. Я прекрасно понимаю, что все мы смертны, как бы это ни было кому-то неприятно, страшно. Ты можешь в любой момент вернуться и сделать как захочешь? Нет. Ты сейчас делаешь, ты должен успеть, поскольку есть срок отведенный. Это чувство, оно дает чувство жизни. Смерть дает жизнь. Как бы это ни была парадоксально.
Эпитафия — это действительно эпитафия. Мое пожелание всем тем, кто будет проходить мимо моего надгробия, всем тем, кто будет вспоминать меня.
Об интервью с бездомным и религии
— Давай поговорим о твоих интервью. В твоей группе есть интервью с бездомным. Начнем с него. Как тебе пришла эта идея? Почему именно с ним? Как ты его нашла?
— В какой-то момент я почувствовала у себя тягу к созданию интервью. Я подумала: а почему бы не взять интервью? У кого-то из своих знакомых, творческих людей? Это будет интересно не всем. Нужно начать с чего-то более точного, понятного. Я поняла, что есть такая тема, которая всех волнует, но все боятся к ней подойти — люди без определенного места жительства. Меня отговаривали все, говорили, они неадекватны, к ним не лезь, не заходи к ним, ничего у них не бери. А это те же люди. Моя основная цель была доказать, что те же самые люди.
С Ярославом мы встретились в тот момент, когда я думала, куда мне идти. У него очень ясные глаза, невероятно умные и невероятно грустные. Я поняла, что с этим человеком нам будет о чем поговорить. Он меня попросил купить ему пиво и «Роллтон». Я ему купила сразу и сказала: «Слушай, Ярослав, ты дашь интервью?» — «Слушай, я могу тебе вообще все рассказать. Здесь расскажу, вообще все объясню!» Мы друг друга сразу же поняли. И он мне рассказал, что не все так просто...
— Ты знаешь, у поэтессы из Петербурга, Елены Шварц, есть небольшие эссе, цитата оттуда: «Нечего брезгливо отмахиваться от этих слов — „черти“, „бесы“, повторяя все снова и снова старый грех высокомерия». Наверное, эта история как раз об этом. Ты не стала открещиваться от этого.
— Конечно. В жизни у меня часто бывала такая возможность договориться с удивительными людьми. И было у меня такое, что я заговорила с бомжом на улице, на остановке в мороз. Он мне рассказал, что у него два физико-математических высших образования. У него грамотно поставленная речь, богатая. Человек не утерял чистоты сознания, проживая даже в таких нечеловеческих условиях. Нам всем нужно еще у них поучиться, потому что сохранить человечность, когда ты живешь в теплой квартире, у тебя есть еда, есть источник дохода — это, конечно, сложно в наших реалиях, но полегче, чем сделать на улице, когда люди тебя сторонятся, и никто тебе даже руку не захочет протянуть. Сохранить эту человечность — это подвиг человеческой души.
— Согласен. Будут другие интервью?
— С бывшим наркоманом, который через рехаб прошел и уже пять лет не употребляет наркотики, но при этом он побывал в отвратительных состояниях и местах. Человек знает, что такое социальное дно и что такое пробить его и опуститься еще ниже. И интервью со священником. Два полярно разных.
— Немного о священнике, об этой теме религиозной. Я смотрю, у тебя еще и серьги с распятием. Твое отношение в религии, расскажи.
— Я считаю, что религия невероятно нужна в нашем мире, потому что ту почву под ногами, о которой мы говорили, ее могут достигнуть не все. Кто-то ее достигал и терял, и не знает, как к ней вернуться снова.
Как я сама к этому отношусь? Это все идет прежде всего из моей семьи. У нас в семье отношение к религии следующее: высшее, если что-то и есть, то это не физический персонаж, который следит, чтобы ты в пост не ел. Это личное восприятие, не претендует на истину. Если высшая сила и есть, то это какая-то чистая истина, высшая энергия. На энергии все держится, она никогда не исчезала и никогда не появлялась из ниоткуда. Она всегда переходит из одного в другое. Поэтому это высшая сила, разум, сознание, истинно чистое, что-то недосягаемое человеком, частью которого мы являемся. Бог, если более простым словом обозначить, то он есть в тебе, во мне, в траве, в асфальте, во всем. Бог окружает нас повсюду, и поэтому принять нужно все, потому что во всем есть высшая сила и истина.
— То есть у тебя больше такой философский подход к религии?
— Конечно, да-да-да. Поэтому распятие — это просто атрибутика. Это дополняет мой образ в данный момент. Я никого не пытаюсь оскорбить, если кто-то скажет: «Меня оскорбляет то, что ты надеваешь символ моей религии себе на уши» — «Извини, пожалуйста».
О провинции и творческих людях Ярославля
— Каково творить в провинции? Нас окружают серые панельки, недостроенные здания, покосившиеся стены, выбитые окна.
— Ну, слушай, в Москве, в Питере такого тоже достаточно. И даже если ходить по Ярославлю, можно ведь увидеть и другое. Во-первых, я безумно люблю Ярославль — это исключение, это такой феномен провинции прецедент. Это небольшой город, но при этом большое количество культурных мероприятий, количество инициативных людей, которые хотят поднимать уровень культурной жизни Ярославля. Творческих ребят у нас невероятно много, действительно уникальных, талантливых, которые творят что-то исключительно свое: уличные художники, не уличные художники, музыканты, очень много их.
Даже архитектура. Я люблю здания старые, куда я тебя привела изначально — Салтыкова-Щедрина. Моя любимая улица, дом с аркой, сад и так далее. Я в этом вижу вдохновение. Я знаю, что есть Брагино, оно по-своему вдохновляло. У меня есть стихи, написанные там. Поэтому можно найти везде все для себя.
— Действительно. Я часто замечаю и вижу периодически афиши тех же квартирников, встреч и всякого разного. Но доходит ли это до людей? Мне кажется, что доходит именно до таких же людей инициативных, творческих. Получается, что это такая маленькая группа в городе.
— Со стороны ты прав, это маленькая группа в городе. Не всем это интересно, не все хотят в такую среду окунаться. Не всем это близко. У кого-то в этом нет потребности.
Ребята стараются, расклеивают и раскидывают афиши своих мероприятий по городу в таких местах, где инициативные молодые ребята будут, которые могут это увидеть, оценить и прийти.
Кстати, такая тенденция: все больше и больше замечаем, что приходят люди именно с улицы. То есть взрослые люди за 40 лет семьями. Это невероятно круто. Видимо, у людей такая духовная потребность в чем-то нестандартно свежем, новом, именно прикоснуться к молодым ребятам, которые. У них еще куча жизненных сил, энергии — это притягивает, это безумно заряжает.
— Твое любимое место в городе?
— Улица Салтыкова-Щедрина и все прилегающее к ней. Этот магазинчик маленький, продуктовый. 17/18 по улице Чайковского. Уникальный абсолютно во всех отношениях — угловой, старый, как в нулевые. Дом с аркой, это аллея, это бульвар, на котором мы с тобой сейчас сидим, разговариваем. Вид с Ушинского университета. Это все мои родные места. Я здесь росла. И поэтому для меня это все родное, любимое, близкое. Также актерский поселок, с ним тоже очень много интересных, андеграундных воспоминаний.
Предыстория
9 июля в Тутаеве проходил ежегодный фестиваль «Романовская овца — золотое руно России». Одним из элементов обширной программы стал круглый стол: научные сотрудники, представители профильных организаций, бизнеса и органов власти обсуждали перспективы развития романовского овцеводства на территории Ярославской области. В заседании принял участие Председатель Ярославской областной Думы Михаил Васильевич Боровицкий.
Заседание круглого стола, 9 июля 2022 года, Тутаев
Специалисты рассмотрели проблемы в работе по улучшению романовской породы овец и, среди прочего, выразили серьезные опасения относительно ее будущего. В частности, говорилось о том, что меры, принимаемые в настоящее время для сохранения породы, могут оказаться недостаточными и привести к исчезновению «романовки» через условные 10 лет. Так же, как это произошло в свое время с Брейтовской породой свиней, которую регион потерял практически безвозвратно. Чтобы этого не допустить, необходимо увеличивать объем финансирования на развитие романовского овцеводства, в том числе товарных ферм, считают сельскохозяйственники. Жизненно важно поддержать уровень спроса на «романовку» — не только внутри страны, но и за рубежом. Экспорт называют важнейшим условием развития романовского овцеводства. В качестве крайней меры по сохранению генофонда «романовки» научные сотрудники предложили произвести забор семени племенных баранов и заморозить его в азоте. Так поступили в Ярославской области, например, с породами крупного рогатого скота.
О потенциале романовской породы овец
Михаил Васильевич Боровицкий уверен, что мало сохранить «романовку», – нужно работать с породой и научиться извлекать выгодную пользу из ее преимуществ, которых, к слову, немало.
– Романовская порода овец – это достояние не только Ярославской области, но и всей России, – говорит глава Яроблдумы. – Она обладает уникальными свойствами, которые выделяют ее среди других пород.
Романовская овца
Александр Дюма, побывавший в Ярославской губернии в 1858 году, в своих путевых заметках отметил: «… мы добрались до Романова, где делают лучшие тулупы в России, для чего держат романовских баранов, привезенных сюда еще Петром I. Царь Петр, который отнюдь не был ягненком, не погнушался дать им свою фамилию. Градоначальник Романова оказался французом, и звали его граф Люксембург де Линь».
Романовская порода овец, выведенная на ярославской земле, — результат крестьянского творчества и влияния совокупности местных факторов, таких как климат средней полосы России и приволжские пастбища. Долгое время «романовку» ценили за ее шубно-меховые качества: теплая и легкая шерсть не скатывается и способна согревать в любые морозы. С другой стороны, у романовских овец, особенно молочных ягнят, качественное мясо с высоким содержанием полезных элементов.
Каре из мяса романовского ягненка
– «Романовка» важна для всего мира, – уверен Михаил Боровицкий. – В наше время шубно-меховые качества не столь востребованы, и на первый план выходят другие отличительные черты «романовки»: качество мяса и полиэстричность (способность давать приплод на протяжении всего календарного года). Это единственная порода в мире, обладающая подобным сочетанием качеств в совокупности. Если говорить про мясо: это высокое содержание аминокислот и белка. Плюс, мясо молочных ягнят овец напрочь лишено характерного запаха, за который многие баранину недолюбливают.
О сельскохозяйственных породах животных, выведенных на ярославской земле
Современные фермеры, сподвижники сельского хозяйства, опираясь на опыт предыдущих поколений и научные достижения, возрождают исконные породы, фактически дают им второй шанс. Главное в этой работе – оптимальное сочетание доступных технологий и естественного подхода к животноводству.
Ярославская порода коров
— Романовская овца, ярославская корова, брейтовская свинья — эти три породы, выведенные на ярославской земле, вошли в золотой фонд генетики России, — отмечает Председатель Яроблдумы. — К сожалению, Брейтовскую свинью мы практически безвозвратно потеряли. Этому поспособствовала мировая тенденция на продукты с отсутствием жира. К сожалению, она в свое время не обошла и Россию. Но вспомните, блюда русской кухни всегда содержали продукты с небольшим количеством жировых прослоек. Самые изысканные деликатесы: карбонад, шейка. Я уверен, что сегодня Брейтовская порода свиней была бы востребована! Увы, теперь мы вынуждены за большие деньги импортировать породы животных, которые абсолютно не приспособлены к нашим условиям.
Почему возникла угроза романовскому овцеводству?
На сегодняшний день специалисты выделяют две угрозы перспективам развития романовского овцеводства: до сих пор неизученное заболевание Visna-Maedi и объективно низкая конкурентоспособность отрасли.Что касается первого: существует международное правило, регламентирующее экспорт. Согласно нему, если хотя бы в одном хозяйстве в регионе выявлен факт заболевания, эмбарго на экспорт автоматически накладывается и на все остальные хозяйства этого региона. Объективно низкая конкурентоспособность отрасли — это в первую очередь сезонность и условия жизни в сельской местности. Во вторую — отсутствие благоприятных финансовых, ветеринарных и организационно-правовых условий для ведения бизнеса в области животноводства. Последнее может быть отрегулировано.
— Важно понимать, почему возникла угроза исчезновения романовской породы овец, — объясняет Михаил Васильевич. — Сегодня ареал распространения «романовки», в том числе на территории Ярославской области, не столь велик, как в советское время. Поголовье снизилось в сотни раз.
— Почему так произошло?
— Как я уже отмечал, традиционно романовская порода овец была заточена на шубно-меховое производство. Мясная продукция всегда носила вторичный характер. Когда необходимость в изделиях из овчины и меха отпали, хозяйства стали закрываться. Мясное направление в большинстве своем нашло себя в импорте.
Внутри породы есть линии: заточенные на шерсть или на мясо, или максимальные по своей плодовитости. Я помню, мы ездили за границу, — изучать, как там используют «романовку». Из Чехословакии привезли на наши племобъединения (тем, кто вопреки обстоятельствам решил развивать мясное направление) баранчиков мясной линии. Путем селекции и скрещивания этих баранчиков с нашими, мы смогли немного исправить ситуацию для Ярославской области с мясным направлением в овцеводстве. Не менее острая проблема — заболевание visna-Maedi.
О visna-Maedi
Вирус visna-Maedi (Висна-Маеди) — хроническое заболевание, распространенное у взрослых овец. Сопровождается поражением центральной нервной системы и пневмонией с последующим летальным исходом. Среди главных факторов, способствующих заболеванию: скученность овец и неблагоприятные условия их содержания.
— Расскажите о заболевании? Как оно у нас появилось?
— Природа заболевания весьма странная. Романовским овцам не страшен никакой мороз, но они болезненно переносят сквозняки и сырость.
В советское время по всей стране строили крупнейшие комплексы — овец держали в условиях крайней скученности. Кошары в этих комплексах были устроены таким образом, что там всегда гуляли сквозняки: решетчатый пол, а под ним пространство, напрямую сообщающееся с улицей. Плюс, конденсат. Он постоянно скапливался на бетонных перекрытиях и приводил к повышенной влажности. Как только вода попадала в шерсть овцы, она заболевала. Ряд специалистов считает, что эти факторы либо явились причиной появления в России Висна-Маеди, либо усугубили ситуацию.
— Почему заболевание так тормозит отрасль?
— Висна-Маеди в первую очередь мешает экспорту. Пока у нас в регионе остается хоть одно хозяйство, где выявлен вирус — неважно, племрепродуктор это или товарная ферма — продавать овец за границу мы, увы, не можем. Это международное правило и обойти его никак нельзя. Если мы хотим, чтобы романовское овцеводство в Ярославской области развивалось, необходимо полностью искоренить заболевание.
— Как это сделать?
— Висна-Маеди остается неизученным. Никто не знает истинную причину и факторы, его вызывающие. Что это: спящая в каждом животном до поры генетическая предрасположенность или все же вирус извне.
Я считаю, что этот вопрос нужно решать на федеральном уровне. Мы должны обратиться в Министерство сельского хозяйства и просить, чтобы орган государственного управления заложил средства и поручил профильным НИИ ветеринарии провести все необходимые исследования и сформировать прозрачную клиническую картину. В итоге мы должны сказать хозяйствам: вы выполняете следующие мероприятия, следуете таким-то правилам, — тогда Висна-Маеди у вас не возникнет.
— На уровне региона мы не можем этого сделать?
— У нас, к сожалению, нет профильных организаций, которые могли бы выполнить такой объем работ.
Романовская овца
— Как нам выйти на Минсельхоз с процедурной точки зрения?
— Это должно быть письменное обращение от Правительства Ярославской области. Я уверен, что Дума это обращение поддержит. Совместно мы можем добиться от Минсельхоза выделения средств на исследование заболевания. Я не вижу в этом проблемы. Мы в свою очередь должны навести порядок в регионе.
— Получается, у нас есть хозяйства, которые добросовестно относятся к вопросам ветеринарии, а есть такие, которые пренебрегают процедурой выявления заболевания в стадах?
— Да. На уровне региона мы через поправки третий год подряд выделяем средства, чтобы проводить ежегодные исследования и отбраковывать животных с выявленным заболеванием. Это позволяет не допускать распространения Висна-Маеди. Но остаются такие хозяйства, которые не желают идти на меры по выявлению заболевания. Нам нужно сделать следующий шаг, который позволил бы покончить с заболеванием. Это в свою очередь открыло бы возможности для экспорта.
— За счет чего этого добиться?
— Всегда нужны две вещи: кнут и пряник. С одной стороны, мы должны создать комфортные условия. Такие, чтобы хозяйства перестали избегать процедуры выявления заболевания. Возможно, заложить средства, за счет которых они компенсировали бы себе соответствующие расходы. Но тогда нужно ввести правила и поставить хозяйствам условие: если вы не занимаетесь вопросами ветеринарии, то мы перекрываем вам торговлю.
Научные сотрудники бьют тревогу!
Специалисты в области сельского хозяйства полагают, что мер, принимаемых сегодня для сохранения «романовки», в будущем может оказаться недостаточно. Необходимо заморозить семя и тем самым наверняка сохранить генофонд. Михаил Боровицкий считает, что этого недостаточно, и предлагает работать с породой и создать адаптивную для современных рыночных условий бизнес-модель, жизнеспособную и привлекательную для всех игроков.
— Заморозка семени — крайняя мера. Чтобы успокоить специалистов и научных сотрудников, конечно, такую работу провести нужно. Но для сохранения породы, я считаю, нужно заниматься породой, а не семенем.
Многие боятся, что будет как с голштинской породой: нам опять скажут, что за границей давно все сделали, нужно только закупать животных, и все наладится. Это заблуждение! Идя по такому пути, мы навсегда окажемся позади у прародителей импортных пород. Поэтому я считаю, что заморозка семени — не выход из ситуации.
Если бы мы сейчас не могли сохранить «романовку» в хозяйственном плане, то — да, такой шаг был бы полностью оправдан. Но это не так! Я абсолютно убежден, что мы должны развивать породу, работать с ней и сделать ее привлекательной для бизнеса. На мой взгляд, у романовской породы овец есть для этого все исходные данные.
Программа развития романовского овцеводства в Ярославской области
Депутаты Яроблдумы способны помочь отрасли. Для этого, считает Михаил Боровицкий, необходимо разработать отдельную программу по сохранению и развитию романовского овцеводства.
— Вместе со всеми, кто породой занимается, мы должны обсудить текущее положение дел и сделать выводы. Затем сформулировать, какие условия необходимо создать, чтобы порода развивалась. Для этого нужна отдельная программа. Она должна касаться всего: вопросов технологий и ведения бизнеса, ветеринарии и методов улучшения качественных показателей породы, а также механизма доступа к кредитно-финансовой системе. Кроме того, я вижу необходимость учитывать в этой программе меры государственной поддержки и систему обучения будущих фермеров. Чтобы последние, попадая в отрасль, уже знали, как работать с породой.
— Как можно организовать такое обучение?
— Я думаю, процесс можно наладить на базе нашей Сельскохозяйственной академии. По окончании обучения у потенциального фермера должен быть доступ к кредитной системе. К примеру, на условиях лизинга.
— Какими вы видите условия лизинговой программы?
— Лизингодатель ставит ферму и поставляет молодняк, к примеру, под залог земли, находящейся в собственности фермера. Кроме того, лизинговое соглашение должно включать в себя схемы сопровождения проекта, в том числе и ветеринарного сопровождения. Это может быть реализовано за счет Информационно-консультационной службы АПК. Таким образом, мы создадим комфортные условия для начинающих фермеров и в будущем оградим себя от недобросовестных хозяйств.
Председатель Ярославской областной Думы Михаил Васильевич Боровицкий
– Как внедрить в Ярославской области программу сохранения и развития романовского овцеводства?
– Я считаю, что Ярославская областная Дума ответственна за положение дел в сельском хозяйстве. Мы должны сохранить породы, выведенные на ярославской земле. Не только для того, чтобы гордиться ими потом, но и извлекать пользу на благо региона сейчас.
Ярославская областная Дума обладает позитивной практикой всестороннего рассмотрения вопросов самого широкого спектра. Комитет АПК должен подготовить слушания. На них выступят все заинтересованные стороны: хозяйственники, управленцы, научные сотрудники и др. Мы должны понять две вещи: каково реальное положение дел в романовском овцеводстве и каким оно должно быть в будущем. Впоследствии Дума подготовит свои рекомендации и вынесет их в адрес Правительства Ярославской области. После рассмотрения в правительстве программа станет частью развития АПК в регионе. Я вижу это так.
– Какую роль в этой программе сыграют представители бизнеса?
– Первоочередную! Хозяйственную проблематику, взаимоотношения между субъектами, вопросы продвижения и каналов продаж они держат на кончиках пальцев и подскажут, в каком направлении двигаться. У бизнеса в этом отношении самые большие компетенции.
– Как скоро можно начать действовать?
– Полагаю, что такая работа подходит для осенней сессии Яроблдумы.
– Насколько Вам лично близка проблема сохранения романовской породы овец?
– Всю жизнь я напрямую или косвенно связан с сельским хозяйством. Научиться грамотно использовать все преимущества породы – задача государственная. Сохранить генофонд «романовки» – научная. Я убежден, что будущее сельского хозяйства за теми, кто станет вести бизнес, опираясь на местные породы.
Отметим, что осенняя сессия работы Ярославской областной Думы начнется в сентябре 2022 года. «Яркуб» продолжит следить за развитием событием.
Беседовал Сергей Калинин
В преддверии дня рождения Волковского театра корреспондент «Яркуба» пообщалась с выпускницей ЯГТИ Алисой Шихановой. Девушка рассказала о конкуренции, своем провале при поступлении и сложностях обучения.
«Профессия, в которой я буду кайфовать»
— Когда ты поняла, что хочешь стать актрисой? Расскажи про свою первую роль.
— Я была творческим ребенком. С детства много чем занималась: плаваньем, танцами, фигурным катанием, рисованием. В какой-то момент решила остановиться на музыкальной школе, при которой была театральная студия. С нее началась моя любовь к выступлениям.
Мы играли спектакли на большой сцене, и я осознала, как круто слышать аплодисменты зрителей. Мне понравилось удерживать внимание зала. Одной из первых моих ролей была Шамаханская царица.
— Ты уже тогда решила, что хочешь стать профессиональной актрисой?
— Я класса с 7-8 знала, куда буду поступать. Всем твердо говорила, что пойду в театральный. Профессия актера объединяет в себе очень много отраслей, которые я люблю. Она открывает в человеке множество творческих граней.
Еще будучи подростком, я поняла, что театр — это место, где буду кайфовать. Только там я смогу и получать эмоциональную разрядку, и учиться. Это та работа, на которую хочется идти.
— Как родители отнеслись к твоему выбору?
— Мама и папа с детства видели, к чему я стремлюсь и чего хочу. Было бы странно, если бы они сказали: «Ты у нас такая творческая, талантливая, иди на медика». Я безумно люблю свою семью за адекватность.
Довольно много людей в моем окружении страдали от того, что у них не было понимания со стороны родителей. Я считаю, что человек должен сам решать, куда ему поступать. Если в этой профессии не получится, то всегда можно сменить вуз.
Конечно, беспокойство родителей оправдано — профессия актера нестабильна. Выпускаясь из института и получая диплом — тут неважно: красный он или серо-буро-малиновый, — ты можешь не стать артистом.
 Конкуренция, любовь за кулисами, жизненный опыт. Интервью с актрисой из Ярославля
Конкуренция, любовь за кулисами, жизненный опыт. Интервью с актрисой из Ярославля
— Если бы не театральный, то кем бы ты могла стать?
— У меня были мысли пойти учиться на переводчика, чтобы путешествовать по миру. Но меня поборола моя лень — после 9 класса забросила занятия по английскому языку. Еще рассматривала журфак.
«Совершила глобальную ошибку»
— В России более 100 театральных вузов. Почему ты выбрала именно Ярославский институт?
— Я родилась в Магнитогорске, но всю жизнь жила в Тольятти. Поступила в Ярославский институт, так как он входит в топ театральных вузов страны. Как я уже сказала, мало того, что профессия артиста сама по себе шаткая, тут еще важно попасть в такое учреждение, после которого будет возможность пробиться в люди. Нужно учиться у мастера, имя которого знают и уважают. Мне с этим повезло.
Понятно, что первым делом все поступают в Москву и Петербург. Целенаправленно в Ярославль мало кто едет. Здесь даже даты прослушивания стоят позже, чтобы у абитуриентов была возможность приехать после провала в больших городах.
 Конкуренция, любовь за кулисами, жизненный опыт. Интервью с актрисой из Ярославля
Конкуренция, любовь за кулисами, жизненный опыт. Интервью с актрисой из Ярославля
— В театральных вузах серьезный конкурс. За одно место борются сотни абитуриентов со всей страны. Расскажи, почему не получилось поступить в Москву?
— При поступлении я совершила глобальную ошибку. Так как пошла в театральный сразу после школы, у меня не было насмотренности. Я попросту не знала, какой материал лучше всего выбрать для прослушивания.
Поступление проходит в четыре этапа: три тура и один конкурс. Каждый раз нужно читать одну и ту же программу: прозу, стихотворение, басню и песню. После каждого тура отсеиваются люди. Это стресс.
Единственный раз я позволила себе пустить слезу — когда слетела в МХАТе. Меня отсеяли с последнего тура, уже на финишной прямой. Причем тут только моя вина — я наступила на те же грабли, что и при поступлении в Петербурге. Мне дали задание прочитать стихотворение так, словно я вхожу в ледяную воду. Я начала играть физически, а не изнутри.
Однако прослушивания непредсказуемы. Может случиться и такая ситуация: ты выбрал плохой материал, сыграл его посредственно, но если твой типаж нужен мастеру, то он на многое закроет глаза.
— Как прошло прослушивание в Ярославле?
— Здесь все было безумно весело. Я читала басню, а комиссия из пяти человек кидала в меня теннисные мячи. Я ловила их и возвращала, не прекращая выступать.
«Нужно жить на сцене»
— Расскажи про обучение в театральном. Что самое необычное вы делали?
— Атмосфера в нашем институте была именно такой, о которой я мечтала. Каждая минута жизни занята творчеством. Порой не хватало времени даже на еду. Нас учили фехтованию, парной акробатике, сценическому бою, народному и классическому танцу. Очень много новых навыков.
На первом курсе нагрузка была еще больше. У нас только пары шли до девяти вечера, а после этого нужно было готовить зачины, номера. Спать мы ложились ближе к четырем-пяти утра. А в девять снова на пары.
— И все справляются с таким темпом жизни?
— Нет, конечно. Основное отсеивание происходит как раз на первом курсе. Обычно никого не выгоняют, люди сами уходят, когда понимают, что не выдерживают нагрузки.
— Конкуренция во время обучения сохранилась? Или интриги остались на этапе поступления?
— Острее всего конкуренция ощущалась в начале обучения. Все считали себя лучшими, в каждом слове и действии читалось: «Меня услышьте! Я знаю, как надо». Доходило до скандалов и драк. Мы боролись за внимание мастера.
Говорят, в театре нет друзей. Тяжело, когда сближаешься с человеком, с которым схож актерский типаж. Режиссер выбирает между вами, при этом каждому хочется играть в первом составе.
 Конкуренция, любовь за кулисами, жизненный опыт. Интервью с актрисой из Ярославля
Конкуренция, любовь за кулисами, жизненный опыт. Интервью с актрисой из Ярославля
— Ты уже сказала, что у актеров нет свободного времени. А как тогда строить отношения?
— Профессия актера очень ревнива. Она не терпит никого рядом. Мастера говорят, что любовь мешает карьере, но я с этим не согласна. Когда ты постоянно в работе, то наступает период выгорания. В моменте можешь опустить руки, и тогда хочется, чтобы рядом был человек, который обнимет тебя.
В театральном институте происходит очень много связей, отношений. Просто потому, что все друг с другом рядом, никого искать не нужно. Ты такой угрюмый, и он такой унылый — отошли и утолили печаль друг друга.
В Ярославле я впервые по-настоящему полюбила. Чувства были сильными, нездоровыми. Я страдала. Прочувствовала многое впервые. Но любой жизненный опыт помогает на сцене. Нужно запоминать свои ощущения, чтобы понимать, как правильно отыграть ту или иную роль.
На самом деле ты живешь и уже неосознанно подмечаешь какие-то мелочи, свои реакции. Мастера говорят, что однажды даже на похоронах близкого человека актер будет стоять и запоминать свои ощущения.
— Кто не сможет стать актером?
— Не сможет тот, кто не готов полностью отдаваться профессии. Это не просто работа. На сцене нужно жить. Иногда придется перешагивать через себя, убирать свою гордость куда подальше. В театре важно слушать и слышать друг друга, от этого зависит результат. Когда идет спектакль, то нет «тебя», есть только «вы».
Читайте также: Очереди, новое меню и цены: фоторепортаж с открытия «Вкусно — и точка» в Ярославле
Корреспонденту «Яркуба» удалось пообщаться с выпускницей и узнать секрет ее успеха.
— К истории начала готовиться ещё в 9 классе, так как хотела сдавать ОГЭ по этому предмету, но в 2020-ом его отменили. Подготовку также продолжила и в 10-11 классах, занималась в известной онлайн-школе и с репетитором, — поделилась Елизавета. — К русскому языку специально не готовилась. Мне повезло с учителями в школе, поэтому знаний, полученных на уроках, мне хватило, чтобы написать ЕГЭ на 100 баллов.
Ежедневно на подготовку у девушки уходило около четырех-пяти часов. Это еще не считая занятий по фортепиано, вокалу и сольфеджио. Елизавета хочет поступать в Московскую Духовную Академию на Факультет церковно-певческого искусства. Для обучения на данном направлении требуется пройти творческое вступительное испытание. Также выпускница рассматривает такие варианты, как СПбГУ (история, археология или социальная работа), РГГУ (история искусств, музейное дело), ПСТГУ (история или социальная работа) и КФУ (история или туризм).
— При подготовке упор старалась делать на практику, поскольку только так можно выявить свои «пробелы» в знаниях.
Ярославна призналась, что всегда мечтала набрать высший балл на ЕГЭ по истории.
— Когда вышла с экзамена, подумала, что я написала всё, что могла и даже больше, поэтому рассчитывала, что у меня будет 90+ или даже 100 баллов. По русскому языку не ожидала такого результата.
Елизавета была удивлена, что действительно смогла стать мультибалльницей. Она не думала, что способна на такое.
— Я узнала результаты по истории рано утром и сразу побежала будить родителей, хотелось их обрадовать, так как они переживали не меньше меня.
По словам выпускницы, зависти со стороны одноклассников не было.
— У нас хорошие отношения. Мы все друг друга поздравляем и поддерживаем, даже если у кого-то баллы не очень высокие, — отметила ярославна.
Елизавета дала советы тем, кому еще только предстоит столкнуться с ЕГЭ. В первую очередь нужно научиться грамотно планировать свой день, неделю.
— Важно правильно распределить нагрузку, чтобы сохранить своё здоровье в течение учебного года.
Благодаря советским фильмам и литературе у большинства россиян сложился описательный образ моряка — седовласый мужчина в возрасте, внушительной комплекции и с длинными усами. Он грозно вышагивает по палубе или стоит у штурвала с курительной трубкой во рту, раздавая указания своим подчиненным. Казалось бы, в 21 веке судна хорошо оснащены, для моряков созданы все условия для комфортной и безопасной жизни на корабле, но современная молодежь делает выбор в пользу иных профессий.
После длительных рейсов возвращаться в береговую жизнь, словно с луны свалиться. Но есть в этом и свои плюсы. В путешествии по морю есть своя романтика опасности и приключений, именно это отмечают моряки в отставке. На суднах всегда царит особая атмосфера, легенды и мифы поджидают за каждым поворотом, а это отличная возможность для моряка реализовать творческий потенциал.
Своей историей с корреспондентом «Яркуба» поделился Виктор Белько. Виктор Юрьевич — в прошлом моряк, капитан 2-го ранга в запасе, а по совместительству писатель под необычным псевдонимом «Старый Филин».
Виктор Юрьевич родился в городе Грозный, в семье нефтяников, выпускников когда-то знаменитого Грозненского нефтяного института. Свое детство и юность провел в Казахстане, в городе Шевченко. Проходил службу на надводных кораблях и подводных лодках Северного флота, в структурах воспитательной работы соединений Кольской флотилии, в гарнизонах Островной, Лиинахамари, Видяево, Полярный. Карьера моряка подтолкнула Виктора Белько на написание увлекательных рассказов о походах нашего Военно-морского флота в недавнем прошлом.
В Ярославскую область, в Тутаев, Старый Филин переехал в 2017 году, когда его служба завершилась окончательно. О былых временах Виктор Юрьевич вспоминает с улыбкой, но очень скучает по родным краям, близким друзьям и товарищам.
Карьера моряка
Меня интересовали подводные лодки, когда я еще учился в школе. Они всегда были на передовой, ходили в боевые службы, из-подо льда проводили пуски грозных баллистических ракет — у меня это вызывало восторг.
В 1973 году меня призвали на службу на Военно-морской флот. Поступил и окончил Школу Техников, и был назначен на одну из самых новых по тому времени атомных подводных ракетных лодок (далее — АПЛ). АПЛ, на которой мне пришлось впервые погружаться, называлась «МУРЕНА». Это отличное и надежное судно.
Но корабли, особенно военные, увы, стареют быстрее, чем люди, и даже не физически, а морально. Не успеет лодка сойти со стапелей, как ты узнаешь, что на каком-то из судостроительных заводов уже заложена новейшая АПЛ, которая будет менее шумной и более быстрой. И мы гордились своими кораблями, самым северным Краснознаменным флотом и нашим Отечеством.
Заветной моей мечтой было служить и ходить в походы так, чтобы достигнуть на своём личном счету 1 000 суток под водой. Но удалось только 397. У меня были перед глазами живые примеры — командиры, старшие офицеры, грамотные, знающие специалисты, люди чести, службой вместе с которыми до сих пор горжусь. А вот мой друг, с которым я пришел на свою АПЛ, провел в боевых походах чуть меньше 1 300 дней и ночей. Мне пришлось учиться и учиться. У военных говорят так: «Остановился — значит отстал!».
Была у нас одна традиция, обряд посвящения: чтобы стать настоящим моряком-подводником, нужно выпить целый плафон забортной воды. Там есть еще сценарии, но этот обязательный на всех флотах и соединениях подводных лодок. Он каждому запоминается на всю жизнь. Потом я работал в штабе: плавания мои завершились, и в море приходилось выходить уже только на «большие и малые» учения.
В 2000 году ушел в запас, даже морской залив видел только через окно рабочего кабинета. Не так давно переехал сюда, в Ярославскую область, и пока очень доволен своим выбором.
Личная коллекция
Всю свою жизнь я увлекался морской стихией, поэтому начал коллекционировать модели подводных лодок. Сейчас у меня 28 экземпляров всех времен — от «Потаенного судна» Ефима Никонова до самых новейших. Крайняя модель перед самым Новым годом пришла от моего старого друга. Это РПКСН «Князь Игорь», типа «Борей А», кто понимает.
В большинстве своем это подарки от друзей и близких, но самые редкие модели я покупаю себе сам. Фаворитка — лодка, на которой 18 сентября 1975 года я первый раз в жизни погрузился на глубину 240 метров. У меня есть еще и модели парусников — от драккара Эриха Рыжего до волжских судов.
Помимо этого, в коллекции имеются фигурки солдат, преимущественно — русской армии 1812 года. Благодаря им узнаю нашу историю глубже, накапливаю интересные факты, мифы и легенды о прошедших временах.
Деятельность писателя
Мои рассказы и повести — это реальные истории людей. Моряки, которые служили на надводных кораблях и подводных лодках, делились со мной своей жизнью, слухами и легендами. Поэтому нельзя сказать, что все придумал я один. Но и совсем со счетов меня списывать не нужно. Мои повести — это симбиоз из ходячих мифов и выдумок. Я доделывал истории, собирал их воедино, чтобы читатель смог насладиться сюжетом.
Поэтому и пришла идея создать образ такого писателя как Старый Филин. Этот псевдоним со мной еще с военного училища.
Товарищи считали меня ехидным и даже умным человеком, часто сравнивали с филином. Засыпая на лекции, я не терял нити материала. Преподавателям и командирам меня не удавалось поймать. Вот с учебных времен ко мне и прицепилось это прозвище.
В моих рассказах течет жизнь. Ирония, юмор, трагедии — это то, из чего и состоят человеческие реалии. Мои повести не для того, чтобы посмеяться от души, а затем, чтобы погрузиться в атмосферу, царящую на флоте, на кораблях.
«Записки Старого Филина или Мерфинизмы по-флотски»
Первая книга вышла в 2001 году и выдержала еще два издания. Это большая гордость для меня. Когда мне сказали, что книга все-таки будет существовать, у меня было состояние полной эйфории. Наверное, его можно сравнить с получением нового звания, военнослужащие меня поймут. Знаете, когда тебе присваивают офицера, становишься лейтенантом, тебе выдают погоны и первая мысль в голове: «Ух ты! Неужели это я?». С первой книгой эмоции были такие же. Мне польстило, что рассказ полюбился читателю.
Последующие издания
Еще одну книгу, которой я могу похвастаться, мы с командой издали в 2008 году. «О городе Коле, о Заполярье и о море» — это познавательный сказ для маленьких колян-северян, их родителей, дедушек и бабушек.
Сразу же после того, как книга появилась на свет, на нее обратил внимание глава Мурманской области. Как это у нас говорится, мы получили «спасибо» в рамочке от нашего губернатора. После прочтения, он сказал, что очень многое узнал о Заполярье и еще раз поблагодарил за проделанную работу.
За все время я выпустил 13 книг, большая часть которых рассказывает об увлекательных приключениях мичмана Егоркина. В их числе «Исторические досуги в кают-компании, или Клио в тельняшке», «Легенды о славном мичмане Егоркине», «Море славного мичмана Егоркины» и другие.
Все свои издания я посвятил возлюбленной, которая в последствии стала моей женой. Подписи на форзацах первых книг из тиражей гласят: «Моей дорогуше Олечке, подружке, любовнице и жене — на память с наилучшими пожеланиями».
Главный герой, или мичман Егоркин
Основной персонаж моих повестей и рассказов — мичман Егоркин. Мичманы — военнослужащие, которые, если связывают свою жизнь с морем, то остаются в нем навсегда. Поскольку они хорошо знакомы со спецификой службы на подводных лодках, то часто делятся байками и мифами, традициями и легендами.
Мичман Егоркин — это не один конкретный человек, это скорее образ. У него есть свой характер, привычки, он любит поговорки и присказки, в его речи всегда проскальзывает морской сленг. Егоркин предан своей работе. Его прототип однажды прыгнул с корабля, чтобы спасти своего товарища. Не дождавшись подмоги, крикнул: «Человек за бортом!» и нырнул в воду. Егоркин храбрый и смелый человек, ничего не боится. Еще он добрый, положительный персонаж.
А как-то раз, после выхода одной из книг, я подарил экземпляр старому товарищу, с автографом, в котором выражал ему благодарность. На следующий день он ловит меня в штабе за рукав и просит: «Юрич, напиши прямо вот здесь, мол, Петрюк — это я, Павлюк! А то жена не верит!».
Фильм, фильм, фильм!
Наверное, еще одна моя мечта — снять фильм по мотивам повестей. Но я уверен, что это нереально. Желающих предоставить свои рукописи для съемок огромная очередь. Часть из них более известные и умные писатели, чем я. Но если помечтать, то хотелось бы создать что-нибудь по мотивам рассказов про мичмана Егоркина. Мне всегда казалось, что у меня мужская аудитория. Однако когда я ездил в Москву в командировку, меня узнала одна девушка и сказала, что ей очень нравятся мои рассказы. Поэтому я считаю, что и фильм выдался бы удачным и точно бы покорил своего зрителя.
Но это уже к сценаристам, да к режиссерам. Есть свои особенности. Однажды к нам в Полярный приезжал Аркадий Инин, известный по фильмам комедийного плана. Ему кто-то подарил мои «Мерфинизмы по-флотски». Книга ему понравилась, но он нам «на пальцах» разъяснил, в чем разница «специального юмора» для определенной социальной группы, например, моряков, и общего кинозала. Если военные будут смеяться, то типовой кинозал лишь слегка улыбнется и то после разъяснения, да с третьего раза.
О будущем
Я, как положено моряку, немножко суеверный, поэтому не буду раскрывать все карты. Но скажу прямо, что в разработке уже находится еще одна повесть. И заканчивать деятельность писателя я не планирую. Читатели говорят, что разные байки получаются неплохо. Бывшие сослуживцы читают и даже хвалят, идеи подкидывают.
Ознакомиться с творчеством Старого Филина можно на сайте ЛитРес. Там опубликованы несколько повестей об увлекательных приключениях мичмана Егоркина.